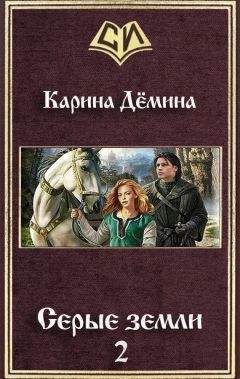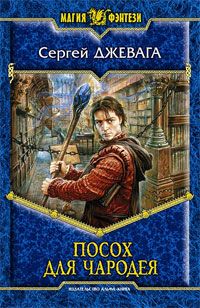Анри Труайя - Николай Гоголь
На каждом шагу он крестился. Его горбатая тень двигалась по потолку, разбиваясь в углах. Когда они дошли до печки, он велел мальчику открыть трубу, как можно тише, чтобы никого не разбудить, и подать из шкафа портфель. Из портфеля он вынул связку тетрадей, перевязанных тесемкой: рукопись второго тома «Мертвых душ», несколько глав третьего тома, кое-какие еще работы. Эти бумаги тяготили его. Тяготили, словно непрощенные грехи. Необходимо было от них избавиться как можно скорее. Чтобы предстать перед Господом чистым. Он положил все эти бумаги в печь и поднес к ним свечу. Огонек загорелся, обгорели края одного листка, потом вспыхнуло все ясным пламенем, наглым и победительным.
«Барин! Что это вы? – закричал мальчик. – Перестаньте! Эти бумаги еще пригодятся!..»
«Не твое дело, – ответил Гоголь. – Молись!»
Догадавшись о трагедии, мальчик расплакался и снова стал умолять своего хозяина вынуть бумаги из огня. Гоголь не обращал на него внимания. Может быть, он думал в эти минуты о том далеком времени, когда он сжег все экземпляры «Ганца Кюхельгартена»? Что лучше огня может уничтожить следы грехов? Но на этот раз листы лежали слишком плотно. Огонь погасал после того, как обгорели углы у тетрадей. Неудовлетворенный, Гоголь извлек из печи полуобгорелую связку и, обжигаясь искрами, развязал тесемку и уложил листы так, чтобы легче было приняться огню. Потом снова зажег свечой свои рукописи. Наконец пламя их охватило.
Яркий свет ослепил Гоголя. Сидя перед открытой печкой, он смотрел, как извиваются и тускнеют строки, написанные его рукой. Чичиков возвращался в ад, откуда ему уж не суждено, видимо, выйти. Но сколько лет труда уничтожено за несколько минут! Что ж, так повелел Бог. А что, если дьявол? Глубоко задумавшись, он долго сидел неподвижно на стуле, как загипнотизированный глядя в пространство, повесив голову, сложив руки на коленях, подобно птице со сложенными крыльями, и ждал, когда все сгорит и истлеет. Тогда, перекрестясь, он поцеловал мальчика, лег на диван и заплакал.[615] Некоторое время спустя он велел позвать графа Толстого и сказал ему прерывающимся голосом, указывая на кучку пепла:
«Вот что я сделал! Хотел было сжечь некоторые вещи, давно на то приготовленные, а сжег все! Как лукавый силен, – вот он к чему меня подвинул! А я было там много дельного уяснил и изложил. Это был венец моей работы; из него смогли бы все понять и то, что неясно у меня было в прежних сочинениях… А я думал разослать друзьям на память по тетрадке: пусть бы делали, что хотели. Теперь все пропало». – «Это хороший признак, – прежде вы сжигали все, а потом выходило еще лучше; значит, и теперь это не перед смертью… ведь вы можете все припомнить?» – «Да, – отвечал Гоголь, положив руку на лоб, – могу, могу; у меня все это в голове».[616]
Он прекратил лить слезы. Черты его лица оживились, он укрепился душой. Зачем он солгал графу, сказав, что сжег рукописи по ошибке? Он прекрасно знал, что именно было в тех тетрадях, что он бросил в огонь.
Но он всегда скрывал свои истинные намерения и любил неверно объяснять свои поступки. Каждый раз, как он изрекал какую-нибудь неправдоподобную ложь, ему казалось, что он защищает себя от обольстительной, хотя и очевидной истины, помрачающей зрение.
Во всяком случае, после этого искупительного жертвоприношения проблема, которая его мучила, осталась нерешенной. В то время, как он думал, что порывает все узы, связывающие его с людьми, те же сомнения терзали его мозг: уничтожая эту ненужную писанину, кому же он повиновался – Богу или дьяволу, который, лишив человечество его произведения (пусть и несовершенного), лишил его современников ступени к христианству, то есть возможности избавиться от каких-то дурных инстинктов? А не оскорбляет ли он Всевышнего, отказываясь принять мир таким, каким он его создал, одновременно белоснежным и черным от грязи? Художник должен сначала сам обратиться к Христу, а потом с помощью посланного ему Богом таланта привести к нему и других. Имел ли он право отречься от этого Божественного дара, стремясь достичь нравственного совершенства и общения с Богом? Кто сумел бы ответить на эти вопросы: ни отец Матвей, ни митрополит Филарет, ни старцы из Оптиной пустыни не могли понять мятущуюся душу Гоголя и не могли бы его просветить. Раздираемый противоречивыми чувствами, будучи не в состоянии осознать, чего же именно Бог ожидает от него, он не видел больше причин влачить свое существование среди людей. Смерть и привлекала его, и в то же время пугала. Как и в детстве, ему случалось слышать голос, который доносился откуда-то издалека и называл его по имени.
В последующие дни он впал в прострацию. Сидя в кресле, протянув ноги на другой стул, прикрыв глаза, он не реагировал на суету и беспокойство его друзей, которые пытались его утешить. «Надобно же умирать, а я уже готов, и умру», – сказал он однажды вечером Хомякову. А когда граф Толстой, чтобы отвлечь его от мрачных мыслей, заговорил с ним о матери и сестрах, он возражал с благоговейным изумлением: «Что это вы говорите! Можно ли рассуждать об этих вещах, когда я готовлюсь к такой страшной минуте?» Потом он распорядился своими карманными деньгами, отдав одну часть на бедных, а другую – на церковные свечи.
Поскольку врач Иноземцев заболел, граф Толстой позвал вместо него доктора Алексея Терентьевича Тарасенкова, человека мягкосердечного, почтительного и образованного, к которому Гоголь испытывал симпатию. «Увидев его, я ужаснулся, – напишет Тарасенков. – Все тело его до чрезвычайности похудело; глаза сделались тусклы и впали, лицо совершенно осунулось, щеки ввалились, голос ослаб, язык трудно шевелился от сухости во рту, выражение лица стало неопределенное, необъяснимое. Мне он показался мертвецом с первого взгляда. Он сидел, протянув ноги, не двигаясь и даже не переменяя прямого положения лица; голова его была несколько опрокинута назад и покоилась на спинке кресел. Когда я подошел к нему, он приподнял голову, но не долго мог ее удерживать прямо, да и то с заметным усилием… Он смотрел как человек, для которого все задачи разрешены, всякое чувство замолкло, всякие слова напрасны, колебание в решении невозможно».
Хотя и с неохотой, Гоголь согласился все же ответить на несколько вопросов интимного порядка, которые задал ему врач. «Сношений с женщинами он давно не имел, – писал Тарасенков, – и сам признавался, что не чувствовал в том потребности и никогда не ощущал от этого особого удовольствия; онании также не был подвержен».[617] Но можно ли верить такого рода признаниям со стороны человека, столь скрытного, как Гоголь? После беседы он позволил пощупать пульс и посмотреть язык, выслушал мольбы Тарасенкова, который заклинал его пить бульон и молоко для поддержания сил, но внезапно, почувствовав переутомление, склонил голову на грудь.