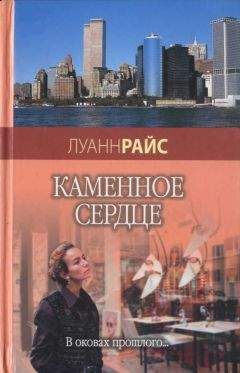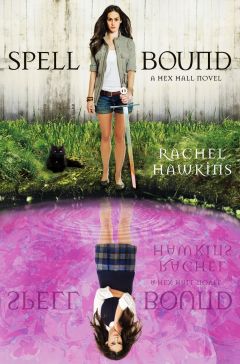Мария Белкина - Скрещение судеб
Где-то в начале февраля, как раз после зимних каникул, в их мастерскую третьего курса вошли директор училища, завуч и представили студентам преподавателя графики Ариадну Сергеевну Эфрон. Фокин рассказывал, что они все уже привыкли работать с живой натурой и, бесцеремонно уставились на нового педагога, оглядывая ее с ног до головы, оценивающе.
И сколь же непросто было Але выдержать взгляды этих пятнадцати пар пытливых, дерзких, придирчивых глаз!
«Натура» всем понравилась.
— Перед нами стояла стройная, худая женщина, на вид лет тридцати пяти. Просто, но со вкусом одетая. Неброского цвета вязаная кофточка и в тон косынка, обхватывающая сзади пучок пышных волос и как-то по-особому красиво завязанная на голове. Лицо выразительное. Но главное — глаза, искристые, пристальные, светящиеся добром. Она встретилась взглядом с каждым из нас и просто сказала: «Давайте знакомиться. И покажите мне свои работы и расскажите о себе». Мы с удовольствием, по очереди, подводили ее к своим холстам, стоящим на мольбертах или развешанным на стенах, показывали рисунки, делились замыслами и хотя мы, конечно, волновались, но чувствовали себя раскованно, словно бы она была не педагог, а старший товарищ, случайно зашедший к нам в мастерскую. Она с такой заинтересованностью разглядывала наши работы, с таким уважением отнеслась к нашему труду, так внимательно нас выслушивала и так доброжелательно и оригинально высказывала свои суждения, что сразу и безоговорочно завоевала наше доверие. Ее уроки никогда не пропускались, и дисциплина на занятиях была образцовой. Но это были не только уроки графики, которые конечно же нам были интересны, и мы тщательно выполняли практические работы по орнаменту, шрифтам, составляли сюжетные композиции, переводили изображение на линолеум. Мы сами с ее помощью изготовляли нужные инструменты. Но на уроках еще шел разговор об искусстве вообще, о литературе, о писателях, об их судьбах, о книгах, она приобщала нас к культуре. Да и просто помогала разобраться хоть как-то, в такой сложной, трудной, путанной жизни, в которую мы входили, вернее вошли уже…
Но как Аля сумела, не имея никакого педагогического опыта, никаких навыков, вести занятия, и не было у нее методических пособий да и просто учебника! А Лувр, где она когда-то училась, был так уже далек, а «антракт», когда она была лишена возможности нормального общения с людьми, так долог… И вот сумела же! Да, она была органически талантлива и с детства обладала удивительным даром давать людям — что надо было им, и как надо было им; то, чего Марина Ивановна, с ее «безмерностью мер», не умела, то, чего Мур был лишен начисто.
Аля с головой уходит в работу. «Работа интересная, увлекательная, — пишет она, — но мал оклад, на руки после всех вычетов получаю 240 р. — на это жить — трудно! Ну, ничего…»
Интересы училища становятся ее интересами, а нужды училища она воспринимает как свои собственные. В Москву летят письма к друзьям, к Лиде Бать, например:
«Хотелось бы, чтобы ты побывала в «моем» художественном училище, — уж очень интересен и хорош послевоенный набор ребят-фронтовиков, инвалидов Отечественной войны и просто очень маленьких мальчиков и девочек в большинстве своем из окрестных колхозов…»
А Борису Леонидовичу: «Я боюсь, что ты совсем рассердишься, когда узнаешь цель моего письма. Потому что это письмо с корыстной целью. Мне страшно нужны твои переводы Шекспира (пьес), в первую очередь «Ромео и Джульетта». Ты мне присылал туда, но в тех условиях уберечь их не удалось.
В училище, где я работаю, есть театрально-декоративное отделение, а Шекспира нет, и достать невозможно. Ни у меня, ни у училища нет ни средств, ни возможностей, а без Шекспира нельзя…»
И получив: «Твои книги безумно — если бы ты их видел в эту минуту! — обрадовали ребят. Они только жалели, что ты им ничего не подписал на них. И отобрали у меня даже бандероль, чтобы убедиться в том, что «он сам прислал». Если бы прислал сам Шекспир, вряд ли он произвел бы больший фурор».
И снова Лиде Бать. «Пришли обязательно свою книгу об Алишере Навои… Боюсь показаться нахальной, но мне нужно две твои книги, т. е. два экземпляра ее, один для меня, а второй для моих учеников по графике, которую попрошу тебя подписать им — учащимся Рязанского Художественного училища от — . Не удивляйся — дело в том, что библиотека училища была почти полностью разорена в годы войны, пополнить нечем, т. к. средств не хватает даже на приобретение учебников. Вот я и обратилась за помощью ко всем книги пишущим и имущим с просьбой помочь 200 ребятам, которым в течении всего учебного года совершенно нечего читать. Лида, учти, что откликаются даже самые маститые, даже самые лауреатные, не будь жадной, откликнись тоже. Кроме того, если у тебя есть что из книг современных наших писателей, которые (книги) тебе не нужны, а так же журналы, то пришли, очень тебя прошу».
И можно себе представить негодование Али, когда вдруг из центра приходит бумага с требованием изъять из библиотеки неугодные книги! А библиотека училища в это время находится в ее ведении. Подобные списки рассылались по всем библиотекам, по всей стране и не один раз в году! И по всей стране пылали костры. Чудовищным кажется, но это было!.. Только немногим книгохранилищам разрешалось упрятать «крамольные» книги в спецхран, куда доступ почти никто не имел. А «крамола» чаще всего, заключалась в том, что в какой-нибудь отличной книге по истории искусства, например о театре, поминалось имя человека, вчера еще прославляемого, а сегодня объявленного космополитом, а то и врагом народа, что в общем-то было почти одно и то же. Или написавший предисловие к тому классика вдруг оказывался не тем, не угодным нынче ЦК. Ну, и классика, стало быть, тоже в огонь! Или чтимый, переводимый, хвалимый зарубежный писатель, побывав в нашей стране, обмолвился, что ему показалось где-то у нас что-то не совсем так…
Книги требовалось изъять безотлагательно, и Але пришлось взять на подмогу пятерых студентов с того третьего курса, который успел уже стать четвертым.
— Вы бы видели Ариадну Сергеевну тогда! На ней лица не было… — говорил Фокин, — стиснув зубы, она отмечала в списке книги, которые мы находили в шкапах и которые подлежали уничтожению. И какие это были книги!.. Одну помню о Леонардо да Винчи. Чем эта книга провинилась — в списке не указывалось. Сжигали в печи, Ариадна Сергеевна не пришла, не могла… А мы, воспользовавшись ее отсутствием и тем, что истопник был подслеповат и неграмотен, бросали в топку что похуже, а хорошие книги, засунув куда только можно, уносили с собой. А потом менялись. Только где-то в конце шестидесятых, должно быть, будучи в Москве и навестив Ариадну Сергеевну я признался ей, к слову пришлось, что лучшие-то книги мы тогда не сожгли! И она сказала: «А я и не сомневалась!..»