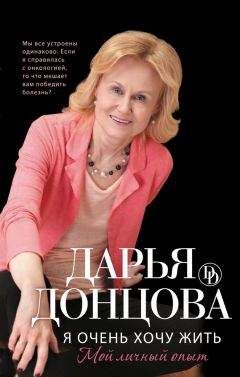Евгения Гинзбург - Крутой маршрут
— Ничего. Поупражняетесь — восстановите. Зато, понимаете...
И тут Горбатова заговорила так открыто, точно сама была не начальником, а тюрзачкой-террористкой.
— В ближайшее время из Красноярского дошкольного педучилища прибудет несколько выпускниц-воспитательниц. Тогда мне будет почти невозможно отстаивать вас дальше. А пианистка... Пианисток среди них нет. Это для вас защитная добавочная квалификация. К тому же слово "пианистка" звучит как-то нейтральнее. Подальше от идеологии... Ну что, согласны? Зарплата та же.
Рассуждения эти не могли вызывать возражений. Но все-таки соглашалась я скрепя сердце. Ведь здесь не таежный Таскан, где достаточно было разбирать "Песни дошкольника". Здесь придется проводить утренники при большой публике, играть бравурные марши в быстром темпе. Одним словом — надо было срочно вернуть утраченную технику.
Я дала телеграмму в Рыбинск, где после войны жила мама, оставшись на месте своей эвакуации из Ленинграда. Бедная, все думала, что Рыбинск-то, может быть, мне и разрешат... Сейчас я просила выслать ноты, не очень-то надеясь, что она сможет купить в Рыбинске то, что надо. Но прибыла бандероль, и я с изумлением обнаружила в ней мои старые детские ноты. Как она умудрилась сохранить их, вынести из двух пожарищ, своего и моего дома? Однако — факт: у меня в руках был мой собственный Ганон, над которым некогда страдала я, восьмилетняя. Пожелтевшие подклеенные страницы пестрели резкими карандашными пометками учительницы, и я вспомнила ее большую руку, обводившую лиловыми кружками те ноты, на которых я фальшивила. На одной странице было написано кривыми ребячьими буквами: "Не умею я брать октаву. Руки не хватает!" И "умею" — через ЯТЬ.
Ганон! Я смотрела на него с глубоким раскаянием. Ведь именно в нем воплощались для меня когда-то все силы старого мира. Именно эту тетрадь я забросила подальше, подавая заявление в комсомол и объявив родителям, что у меня теперь заботы поважнее. Пусть дочки мировой буржуазии штудируют Ганон!
Думала ли я тогда, что настанет день, когда отвергнутый Ганон прибудет на Крайний Север спасать меня от увольнения с работы, от беды, от всяческого злодейства? Прости меня, Ганон! И вы простите, Черни и Клементи!
Я рьяно принялась за дело, просиживая долгими часами у расстроенного детсадовского пианино. Совсем не просто было вернуть гибкость пальцам вчерашнего лесоруба и кайловщика. Видела бы мама, как я усидчива, как настойчиво не отхожу от инструмента! Сколько огорчений доставила ей когда-то моя музыка! Теперь от этой постылой в детстве тетради зависела моя дальнейшая жизнь, судьба Васи... И я старалась. И мне помогали пометки давно умершей учительницы.
Горбатова была права: для отдела кадров слово "пианистка" звучало нейтральнее, чем "воспитательница". Но она ошибалась, думая, что музыкантша детского сада может стоять подальше от "идеологического фронта". Наоборот. Ведь именно музыкальный работник должен был быть и автором сценариев и режиссером всех праздничных утренников. А утренники это и был основной "товар лицом". Их показывали начальству. Их проводили раз семь в году, по всем двунадесятым и престольным праздникам. По успеху или провалу утренников судили обо всей работе с детьми. Так что и в новой моей должности методистки из дошкольного методкабинета продолжали бдительно следить за каждым моим шагом.
Моим дебютом должна была стать елка, новогодний утренник сорок восьмого года. Именно в эти черные дни, когда я уже была вконец обессилена борьбой за приезд Васьки, когда неотступно стояло передо мной лицо Антона, истерзанного, может быть убитого, — именно в это-то время я и должна была изощряться, чтобы составить сценарий, какого еще не было в Магадане, яркий, веселый, полный елочной мишуры. И не только сочинить сценарий, но и заразить его веселостью детей, воспитателей. И главное — чего уж там скрывать от себя самой — ублажить начальников, которые придут смотреть.
Бросить все, уйти в спасительный утильцех? Но там я заработаю втрое меньше. А вдруг в это время разрешат вызвать Васю? А у меня не будет денег на билет для него... Значит, надо делать все, чтобы понравилось, чтобы не выгнали с выгодной работы...
Елка удалась на славу. Да это и нетрудно было. Ведь масштабом для сравнения были довольно казенные представления, однообразно переходящие из года в год. Методистам понравилась драматизация сказки. Это давало ценный опыт для работы кабинета методики. Родители хохотали вместе с детьми. Горбатова жала мне руку и говорила громко, так, чтобы слышал начальник кадров Подушкин: "Такого утренника в наших садах еще не было". Даже сам начальник сануправления Щербаков улыбнулся и кивнул мне головой.
О низость! Я ли это? И не лучше ли, в конце концов, было в тюрьме и в лагере? Там мне не надо было ловить начальственные улыбки. Там пайку давали даром. Да, но пока я ела даровые пайки, пропал Алеша. А теперь я должна спасать Васю. Нет, не любой ценой, конечно... Не любой... Ведь я не сделала ничего подлого. Только притворилась веселой, только любезно ответила на улыбку Щербакова... Такие силлогизмы терзали меня день и ночь, и хуже всего было то, что Юле нечего было и заикаться об этом. Она гордилась моими успехами, а все остальное считала "интеллигентскими рефлексиями".
...Стоял беспросветный магаданский январь. Правда, температура здесь не доходила до пятидесяти, как часто бывало на Таскане или в Эльгене. Но магаданские тридцать — тридцать пять переносить было тяжелее, чем таежные пятьдесят. Колкий ветер с моря, промозглость воздуха и какое-то особое, чисто магаданское удушье терзали людей.
Каждое утро хотелось умереть. Главным образом и для того, чтобы все забыть. И это страстное желание все забыть каждое утро терпело поражение. Его побеждала именно память, которая подсовывала одно только слово: Васька. Ведь его надо заполучить сюда. А если даже это не удастся, то ему надо посылать каждый месяц деньги на жизнь, на образование.
В один из таких дней, когда хотелось от отчаяния выть по-волчьи, а приходилось аккомпанировать ребятам, разучивавшим песню "Сталин — он с нами везде и всегда, он — путеводная наша звезда", дверь музыкальной комнаты отворилась, вернее, чуть-чуть приоткрылась.
— Вас вызывают... Из дома...
У дверей стояла Юля. На лице ее был отсвет чего-то необычайного — тревоги, изумления, радости, чуда, землетрясения какого-то, что ли. Она сжала мне руку и зашептала:
— Скажи, что ты неожиданно заболела. Или еще что-нибудь наври... Но отпросись домой! Немедленно! У него в распоряжении только один час.
— У кого?
— У Антона Вальтера. Он сидит в нашей комнате.