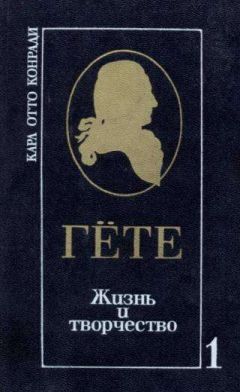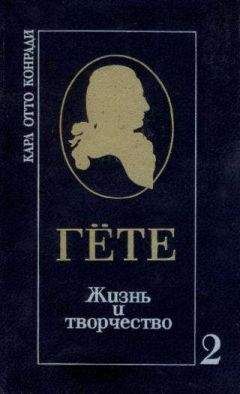Карл Отто Конради - Гёте. Жизнь и творчество. Т. I. Половина жизни
502
ни удил они не знали!» (5, 146). Ифигения, однако, еще свободна от проклятья. И она исполнена решимости утвердить свою волю. Тоскуя на чужбине, она жаждет возвратиться домой, что стало бы невозможным после супружества с Фоантом; потому и отвергает она его домогательства. Но не только в этом дело: Ифигении — как показывает уже ее вводный монолог — не по нраву подчиненная роль женщины в замужестве, когда жена обязана потакать властолюбивому мужу. Ифигения уповает на помощь богини, которая однажды уже спасла ее от смерти.
Но вот она оказалась втянута в ход событий, подвергающих ее тяжелым испытаниям. Фоант, не имеющий жены, рано потерявший сына, настаивает, чтобы Ифигения стала его женой. Он считает, что имеет на это все права. С тех пор как жрица появилась в Тавриде, «нас небеса не раз благословляли». Он всячески увещевает ее и обещает:
Об этом просит не бесчестный муж,
Моим рукам ты вверена богиней!
Как божеству священна ты и мне!
Пусть боги явят знак: он для меня —
Закон. И коль на родину возврат
Тебе сужден, я року подчинюсь.
(Перевод Н. Вильмонта — 5, 145)
Это — его обещание, и в конце он действительно выполняет его.
На решительный отказ Ифигении стать его женою, оскорбленный царь тавров отвечает повелением возобновить забытый уже здесь обычай: приносить чужеземцев в жертву Диане. Такова, по его разумению, древняя заповедь богини; и не подобает людям перетолковывать ее закон. Возражения Ифигении основаны на совершенно ином представлении о мнимой воле богов: «Тот ложно судит о богах, кто мнит / Их падкими на кровь, Он переносит / На них свои же низкие влеченья» (5, 152). Но неожиданное появление двух чужеземцев, Ореста и Пилада, которых ей надлежит принести в жертву, создает как раз ту ситуацию (во втором действии), в какой Ифигения не желала оказаться: «Упаси мои руки от крови!» (5, 153). Дальше, до начала четвертого действия, стержнем всех явлений становятся события, связанные с Орестом: его отчаяние из–за вины, которая тяготит его, убийцу собственной матери; хитроумные идеи Пилада о возможном избавлении
503
от той страшной смерти, которая приуготована им здесь; встреча брата и сестры, узнавших друг друга, вспышка безумия у Ореста и его исцеление. Оно выглядит в самом деле странно — так, как оно представлено в гётевской «Ифигении». Читателю или зрителю трудно понять, что же на самом деле происходит по мере того, как он исцеляется от ощущения вины и раскаяния, доведших его до безумия. Дело в том, что здесь Гёте перевел в подтекст все развитие образа Ореста; и в самом тексте пьесы нет желательного разъяснения происходящему. Такой Орест существует вовсе без появляющихся на сцене фурий (эриний), которые преследуют и мучают его. А в опере Глюка «Ифигения в Тавриде» (премьера состоялась незадолго до того в Веймаре) бесчинствующие фурии — это еще реальные существа, творящие зло. «Без фурий нет Ореста» — заметил Шиллер (в письме к Гёте от 22 февраля 1802 г.), указав тем самым, как надлежало бы показать в драматическом спектакле муки совести Ореста и его избавление от них. На его взгляд, предоставлять событиям развиваться «внутри» — решение совершенно «неклассическое» по своему духу и свидетельствует о влиянии нового времени.
Но как вообще возможно искупить такое чудовищное преступление — убийство матери? Возможно ли освободиться от вины тому, кто совершил подобное преступление? Правда, кто виновен в нем — понять невозможно (так уже и в античных текстах): ведь совершено это злодеяние под знаком проклятия, назначенного богами, даже по их приказанию, но вместе с тем расценивается как преступление. Но, во всяком случае, должно произойти искупление и исцеление виновного, кого безжалостно преследуют эринии, богини мести. У Гёте проблема вины отступает на задний план перед не менее сложной проблемой, а именно: каким образом человек, убивший собственную мать, оказывается в состоянии смириться с происшедшим. Абсурден мир, в котором преступление представляется заповеданным и одновременно оно вызывает духов мщения; в котором деяние одновременно и оправдывается, и осуждается. Значит, нельзя больше избавляющему божественному началу одному лишь передоверять искупление вины и исцеление героя.
Орест у Гёте страдает, доходя до безумия, из–за внутреннего натиска фурий, и все же в конце третьего акта, обращаясь к Ифигении, он способен возвестить:
504
Проклятье миновало — вижу сам.
Чу! Эвменид ужасная толпа
Спустилась в ад, и кованая дверь
Захлопнулась, вдали прогрохотав!
С земли восходит благовонный пар
И манит вдаль, ожившего, меня,
И к радостям и подвигам взывает.
(Перевод Н. Вильмонта — 5, 178)
Последовательно переживая страшные воспоминания, охваченный видениями, Орест дошел до этого состояния успокоения в присутствии сестры своей, Ифигении. Приступ крайнего отчаяния, вызвавшего желание умереть как единственно возможное избавление, сменяется у него, пока он, упавший в изнеможении, приходит в себя, видением: он видит весь род Атридов в Аиде, где все наконец соединились, примиренные: «Мы все раздор забудем здесь!» Лишь предок их, Тантал, кого изначально поразило проклятье, остается исключенным из этого круга. Обнадеженный этим видением возможного успокоения, еще только, правда, предвкушая свое появление среди родных, в царстве мертвых, где он вскоре появится новым гостем, Орест, которого должны были принести в жертву, обращается к Ифигении: «Дай в первый раз в твоих объятьях чистых / Незамутненной радости отведать!» (5, 177). А непосредственно перед строкой «Проклятье миновало — вижу сам» он еще раз молит богов: «О, дайте мне в объятиях сестры / И на груди у друга дорогого / Священным счастьем вдосталь насладиться!» (5, 178). В монологе, которым открывается следующее, четвертое действие, Ифигения заверяет, что не хотела выпускать из своих рук Ореста. В пьесе ничто из этого не было зримо представлено; решающий этап исцеления Ореста, обретение покоя в объятьях сестры, не показан вовсе. Лишь в «антракте» между третьим и четвертым действиями могло произойти то, о чем герои пьесы лишь говорят. «Знай, брат твой исцелен!» (5, 185) — вот что может в конце концов выкрикнуть счастливый Пилад.
Представляется, что гётевский Орест был исцелен тогда и — в особых рамках происходящего в том абсурдном мире — также в достаточной мере понес кару и искупил вину, как только он вновь пережил свое чудовищное преступление, взял вину на себя и оказал–505
ся в очищающей близости от сестры своей, которая еще не затронута всеми извращениями, поражавшими род Атридов из поколения в поколение, которая стремится сохранить свою чистоту. Не боги помогают здесь, и искупление вины не связывается более с доставкой в Грецию культовой статуи. Правда, часто идет речь о богах, точнее, об истолковании их советов и речений оракула, однако сами боги так и не появляются перед зрителем. В пьесе искупление вины и исцеление совершается благодаря людям — и тем, кто (как Ифигения) желают освободиться от рокового проклятья, поразившего род Атридов (которое, возможно, олицетворяет еще и такие религиозные представления, как наследственный грех, бывшие для просвещенного XVIII века уже пережитком прошлого), и другим, кто (как Орест) по крайней мере внутренним взором осознали, что умиротворение, гармония в принципе достижимы. Само исцеление Ореста — действительно равнозначное чуду — свидетельствует всего лишь о том, что оно вообще возможно. В сравнении с этим соображением доказательство (которое несложно провести), что события в драме отнюдь не мотивированы достаточно последовательно, становится второстепенным. Интерпретаторы творчества Гёте не раз указывали на эти недостатки: ведь исцеление Ореста теперь вовсе не зависит от назначенного Аполлоном испытания — необходимости возвратить на родину сестру (или культовое изваяние), как то предполагается в легенде, а слова его «Я исцелен тобой, / Пречистая. В твоих руках схватила / Меня болезнь жестокими когтями / В последний раз […]» (5, 204) вообще не связаны с чем бы то ни было.