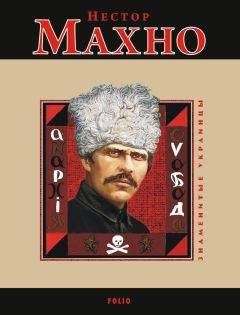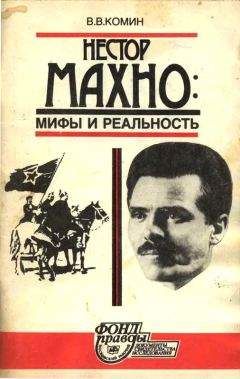Василий Голованов - Нестор Махно
Когда-то Аршинов в Бутырской тюрьме сидел вместе с Серго Орджоникидзе – и в трудную минуту воспользовался старой дружбой, чтобы вернуться в СССР, вырваться из круга отверженных, спасти себя, сохранить семью… Он ставил на карту все. Среди старых товарищей-анархистов имя его было проклято. По выбранному пути нужно было идти до конца. Он попробовал. В 1935 году в «Известиях» появилась очередная его статья – «Крах анархизма» – но в те годы, когда Сталин ломал хребты «ленинской гвардии», своих старых товарищей по партии, полководцев, стяжавших победу в Гражданской войне, подобное самоотречение уже ничего не значило. Как и все раскаявшиеся «попутчики», Аршинов был расстрелян в 1937-м. В том же году, не желая быть причисленным к пособникам Сталина, застрелился его друг Серго.
Но предательством Аршинова не исчерпался круг страшных утрат Махно. В самом конце 1932 года покончила с собой Мария Гольдсмит. Теперь в огромном Париже Махно буквально «осиротел»: никто не мог ни вступиться за него, ни поддержать, кроме нескольких болгарских анархистов и эмигрантов с Украины, связанных с махновщиной. Единственная газета, которая продолжала его печатать, была американская анархическая газета «Рассвет» (Орган русских рабочих США и Канады). Здесь в 1932-м Махно удалось опубликовать «Азбуку анархиста-революционера». Лишенный элементарных условий существования, больной человек, которого недоброжелатели называли за глаза «живым трупом», находит в себе силы, чтобы написать: «Опытом практической борьбы я подкреплял убеждение, что анархизм – учитель жизни человека, – он революционен так же, как жизнь человека, так же разнообразен и могу1! в своих проявлениях: ибо анархизм есть свободная творческая жизнь человека» (55, 122). Почему же легально идея анархизма нигде не живет? Да потому, пишет Махно, «что в данный период развития человеческой жизни общество в человеческом смысле не живет своей жизнью, а живет жизнью своего слуги и господина – государства. Даже более того, – общество совсем обезличилось. Его нет в действительности. Все функции его, все сознание и функции в области общественных дел перешло в ведение государства. Последнее и считается теперь обществом. Группа людей, выползшая на шее всего человечества и искусно создавшая „законы“ жизни этого последнего, является теперь человеческим обществом. Человек в одиночку в своей многомиллионной массе – ничто по сравнению с этой группой бездельников, носящей имя правителей и хозяев, эксплуататоров и насильников» (55, 126). Что же делать человеку массы, все функции которого присвоило себе государство? «Бунтуй, восставай, угнетенный брат! Восставай против всякой власти! Разрушай власть буржуазии и не допускай к жизни власти социалистов и большевиков-коммунистов. Разрушай всякую власть и гони от себя ее выразителей, ибо среди них нет твоих друзей!» (55, 128).
Да уж, бунтарь Махно оставался бунтарем до конца. Слишком, увы, скорого.
Бедность, плохое питание, курение, отверженность и одиночество сделали свое дело: обычное заболевание гриппом открыло путь застарелой чахотке, которая как хозяйка ворвалась в его истерзанные легкие. На этот раз обострение было слишком серьезным, чтобы Махно мог просто «отлежаться». 16 марта 1934 года Махно положили в бедняцкий госпиталь Тенон. Парижские анархисты очнулись, вновь создали «комитет Махно» для сбора средств при газете «Le Libertaire», но было слишком поздно. В июле врачи сделали Махно операцию, удалив два пораженных туберкулезом ребра. Однако и эта мера была запоздалой. Смерть неумолимо шла за ним, и единственное, что можно было еще сделать, – это отсрочить конец. Его поместили под кислородный полог. Бывшая жена, пришедшая навестить Нестора Ивановича, увидела слезы, беззвучно катящиеся из его глаз. В ночь с 24 на 25 июля 1934-го Махно не стало. Среди бумаг покойного Галина Кузьменко обнаружила текст последней статьи Махно «Над свежей могилой Н. А. Рогдаева», посвященной памяти несгибаемого русского анархиста, умершего в ссылке в Средней Азии. Ее Махно закончил еще до болезни, в январе 1934-го, но не сумел переправить в Америку из-за того, что у него не было денег даже на почтовую марку.
Для Махно Рогдаев был не просто легендарным пропагандистом анархизма эпохи первой русской революции, когда он целые южнорусские губернии с губернскими городами «излечивал» от социал-демократии и эсерства и «перекрещивал» в анархизм. Рогдаеву Махно обязан был лично.[32]
Но, может быть, больше, чем за прежние заслуги, он ценил погибшего в ссылке анархиста за то, что тот не сломался, не предал, не изменил своим убеждениям в этот проклятый век измен… Ибо на кого еще было равняться ему, оказавшемуся в кромешном одиночестве? Если не осталось живых – оставалось на мертвых… Неожиданно сильной вышла эта предсмертная статья… К несчастью для историков, в руках бывшей жены Махно и Волина – который после смерти Махно и предательства Аршинова становился главным «интерпретатором» махновщины, – оказались не только эта рукопись, но и дневник, который Махно вел в Париже. По-видимому, многие записи в нем свидетельствовали и против Галины Кузьменко, и против Всеволода Волина – во всяком случае, «дневник Махно» исчез навсегда.
Жизни этих двоих были и дальше тесно связаны – по упорно ходившим слухам, Волин стал гражданским мужем «матушки Галины». После немецкого вторжения во Францию он бежал в неоккупированный Марсель, где издал по-французски книгу «Неизвестная революция» – свою версию истории махновщины, лишь недавно переведенную на русский язык. Жил в нищете, скрывался от немцев, в сентябре 1945 года, как и Махно, умер от туберкулеза в Париже. Еще более драматично сложилась жизнь Галины Кузьменко. В годы войны немцы вывезли ее дочь Елену на работу в Берлин, она поехала следом, и они пережили сначала англоамериканские бомбежки, потом штурм города советскими войсками, а в августе 1945 года были арестованы «органами». Галина Андреевна, как вдова «заклятого врага Советской власти», получила восемь лет лагерей, Елена Несторовна – пять лет ссылки. Они оказались в Казахстане, где провели долгие годы в нелегком труде и тщетном ожидании снятия «вражеского» клейма. Мать умерла в 1978 году, дочь дожила до официальной реабилитации в 1989-м. Но было уже поздно – жизнь прошла…
* * *После кремации прах Махно был захоронен на кладбище Пер-Лашез рядом со «стеной коммунаров» в ячейке № 6686. Позднее ячейку украсили медным барельефом, на котором изображен Махно во френче. Имя написано латинскими буквами. Годы жизни. Букетик оставленных кем-то цветов.
Без проводника найти захоронение Махно в том огромном и даже роскошном городе мертвых, которым является кладбище Пер-Лашез, очень трудно. Я сам убедился в этом, оказавшись в Париже осенью 1997 года. Ночью прошел дождь и сбил наземь множество листьев вековых платанов, растущих вдоль кладбищенских аллей. Несколько негров с воздуходувными машинами, похожими на большие пылесосы, закрепленные на спине, наподобие рюкзака, сдували палую листву с главного проспекта. Я проходил мимо великолепных надгробий наполеоновских маршалов, писателей, масонов, спиритов, памятников ополченцам 1870 года, фамильных склепов и скромных могил великих писателей. В какой-то момент задача – найти захоронение Махно – показалась мне невыполнимой, но дух батьки определенно реял надо мною, ибо в минуты отчаяния перед моими глазами на внутренней стене кладбища возникала одна и та же триада имен, написанных, как мантра, при помощи спрея: Jim Morrison. Oscar Wilde forever. И Viva Nestor Makhno! Они не забыты – великий рок-музыкант, великий писатель-романтик и великий революционер, хотя к ним приходят совсем по разным надобностям совершенно разные люди, говорящие на разных языках…