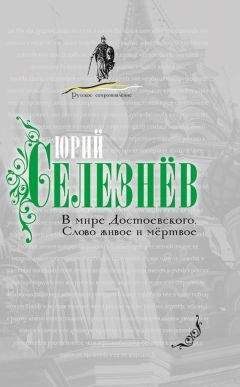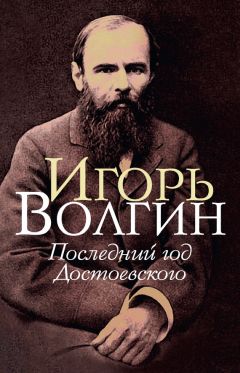Юрий Селезнев - Достоевский
Анна Павловна хоть и сердилась на Федора Михайловича за его дерзости и поругивала за «Бесов» и за его «фанатичную» религиозность, но вместе с тем и почитала «своим нравственным духовником». Федор же Михайлович убеждал ее в том, что она-то и есть истинная христианка, только стыдится себе в этом сознаться, потому как побаивается, что быть христианкой — нелиберально.
Рассказывали про нее: однажды опаздывала с мужем на придворный прием и бал; Анна Павловна, хоть и одетая уже в черное бархатное платье с букетом анютиных глазок, — «как у Анны Карениной» — все еще никак не могла решить, какой диадемой украсить свою прическу, — как вдруг в их квартире появился какой-то явно не аристократический тип и, задыхаясь, доложил, что в одной из дешевых ночлежек для бедных обварили нечаянно ребенка, — мать голосит, а доктора позвать — нет денег... Анна Павловна, не раздумывая ни секунды, как была в бальном платье, оставив собственный экипаж мужу, крикнула извозчика и помчалась сначала за доктором, потом в ночлежку.
— В этом жесте вся Анна Павловна, — говорил Достоевский восхищенно. — Помочь ребенку важнее, чем новое платье, чем опоздать к выходу царя, появиться во дворце не под руку с мужем, нарушив заведенный веками этикет... Главное — всегда сначала настоящее!
При дворе ее не любили, относились к ней подозрительно. Наконец, выходки Анны Павловны — «слишком много себе позволяет» — надоели, и она была выслана из России.
— Только ради тебя я отправил ее за границу, а не в Вятку, — объявил ее мужу Александр II.
Да, удивительная штука жизнь: насколько в юности своей Достоевский чуждался женщин и они, словно чувствуя это, чуждались его, настолько теперь вдруг женщины-то и сделались его главными благодарными поклонницами и почитательницами, понимающими, прощающими ему, не в пример мужчинам, особенно друзьям, собратьям по перу, даже дерзости и «детские» капризы. Словно чутким своим женским чутьем угадывали они в нем бескорыстного друга, всегда готового и способного утешить, поддержать их лучшие духовные силы и потребности, пробудить в них веру в себя, в свое высокое человеческое достоинство. Он никогда не позволял себе дешевых заигрываний, не говоря уже даже о малейших светских намеках на роль соблазнителя, но всегда бывал строг, обращался как с равными, и это нисколько не обижало, напротив, заставляло их тянуться к нему с полным доверием, и он сам видел в них искренних своих друзей. Вот только искусству целовать ручки у дам он так и не обучился...
Но, кажется, более всего любил он бывать в последнее время у вдовы недавно умершего поэта и драматурга, автора «Князя Серебряного» и «Царя Федора Иоанновича», co-творца знаменитого Козьмы Пруткова, Алексея Константиновича Толстого — Софьи Андреевны, которую чрезвычайно ценил за острый ум и доброе сердце. Всегда в черном, уже седая, она все еще впечатляла оригинальностью суждений по литературным и житейским вопросам, любезностью хозяйки литературного салона, привлекавшего и Гончарова, и Тургенева, и других литераторов. Софье Андреевне удалось однажды уговорить и Достоевского прочитать у нее еще не опубликованные главы «Братьев Карамазовых». Они вскоре по-настоящему подружились, так что даже ревнивая Анна Григорьевна не дулась, когда ее заласканный столь знаменитыми женщинами муж, бывало, заходил к Софье Андреевне один, в неприемное время, запросто, «на свою чашку чаю».
Услышав однажды о том потрясении, которое Федор Михайлович испытал в Дрездене перед Рафаэлевой Мадонной, Софья Андреевна чуть не до слез растрогала Достоевского, выписав для него из-за границы прекрасную фотографию с картины. Дорогой сердцу подарок повесил в своем кабинете над диваном, и Анна Григорьевна не раз, входя к нему, «заставала его стоящим перед этою великою картиною в таком глубоком умилении, что он не слышал», как она входила, и она потихоньку удалялась, «чтоб не нарушить его молитвенного настроения».
Лето 79-го, как обычно, проводили в Старой Руссе. И однажды — увидел и не поверил: неужели Анна Васильевна, Анюта?... Господи, как недавно и как давно все это было... Анна Васильевна Корвин-Круковская, теперь в замужестве — Жаклар, отдыхала в это лето тоже в Старой Руссе. Немало переговорили по вечерам с нею и с ее мужем, французом Виктором Жакларом — деятелем I Интернационала, участником Парижской коммуны. Он был приговорен к смертной казни, но им удалось бежать в Россию. Сонечка, влюбленная некогда в Федора Михайловича первой девичьей своей трогательной любовью, ныне уже Софья Васильевна Ковалевская (вышла замуж за ученого-палеонтолога Владимира Онуфриевича Ковалевского), — первая в России женщина-математик.
Да, сколькими удивительными женщинами одарила судьба Достоевского!.. Надежда Суслова, младшая сестра Аполлинарии, еще в 67-м защитила диссертацию в Цюрихском университете, теперь доктор медицины. Вот только сама Аполлинария промотала, считай, впустую богатые силы своей неуемной натуры между стареющими эмигрантами, так и не найдя себя вполне ни в их революционности, ни в их страстных взглядах и рукопожатиях с намеком на надежду.
Как все-таки быстро летит время...
Но ни постоянная напряженная работа над романом, ни редкие встречи с близкими людьми все-таки не в силах были развеять того грустного, порою доходящего и до отчаяния, состояния души, в котором он давно уже пребывал. Какое-то роковое, что ли, непонимание самой сущности его проповеди, особенно среди значительной части молодежи, прежде всего либеральной и революционно настроенной, тяготило мысль и сердце. Недавно еще казалось, что чуть не всенародный порыв к освобождению поднявшихся против многовекового порабощения братьев-славян поможет молодежи определить и свое отношение к судьбам самой России, сплотит все лучшие, мыслящие, чистые сердцем силы, но... Молодые радикалы явно избрали путь политического террора, охоты на царя и правительственных чиновников. В связи с национально-освободительной борьбой на Балканах все чаще можно было услышать мнения о «сомнительных героях и никому не нужных подвигах вроде Шипки...». Достоевскому же хотелось верить, что именно там, в бескорыстной борьбе за освобождение братьев, выковываются сейчас характеры, герои, могущие в недалеком будущем стать основой возрождения и самого русского общества к иной жизни. Вот почему он с таким восторгом отозвался и на приглашение старого своего сотоварища по Инженерному училищу, героя боев на Шипке, Федора Федоровича Радецкого быть на обеде, устраиваемом в его честь. Если не Радецкие — основа будущей России, то кто же тогда? Господа террористы, что ли? Неужто рассчитывают, «убрав» удачным выстрелом или взрывом бомбы какого-нибудь из ненавистных министров, повернуть колесо русской истории? Уберут одного — сядет другой, более ловкий, и только. Бездарного Рейтерна сместили с поста министра финансов (Михаил Христофорович хоть какую-то известность получил: как-никак, а «спаситель Волги»!). На его место тут же не менее бездарный, но более проворный Александр Аггеевич Абаза вспрыгнул, отпрыск известного рода откупщиков неизвестного происхождения, не то персидского, не то еще какого — что ему до России? Насосался один паучок, присосался другой. Нынешний министр финансов Самуил Алексеевич Грейг решил «охватить кабаком» все возвращающиеся с Балкан силы и тем поправить денежное состояние государства, под коим подобные деятели разумеют не народ, естественно, а только одну административную верхушку, не забывая при этом о самих себе прежде всего, конечно. Первый государственный шаг министра состоял в ассигновании им двухсот с лишком тысяч на отделку собственной квартиры с фонтанами и зимним садом. Это сколько ж сивухи надобно влить в себя бедному русскому мужику, тем же доблестным «братушкам», израненным в турецкой мясорубке, чтобы оплатить одно только это «государственное» мероприятие? Не очищают ли господа террористы, бессознательно конечно, своими акциями дорогу на высшие государственные посты подобным дельцам, более обходительным, нежели прежние, иезуитски утонченным, даже и европейски либеральным?