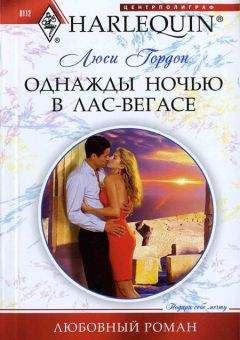Сергей Есин - Дневник 1984-96 годов
Вчера вечером по телевизору показали Березовского, который рассуждал о том, как надо восстанавливать Чечню. Это на фоне жуткой истории, как расстреляли родителей прокурора, занимавшегося Буденовском. Автобус, на котором ехали старики, остановила банда боевиков, потом в автобус вошла женщина и указала: "Они". Стариков расстреляли и десять дней не давали похоронить. Ничего более страшного я пока о Чечне не слыхал. И Березовский ее восстанавливает. А надо ли ее восстанавливать! Может быть, это зачумленное место? Оставить, обнести колючей проволокой, рано или поздно, если они не изменятся, мировое сообщество поймет, что эту рану надо выжечь.
Так не хочется ехать в Германию, жизнь перестала меня нести. Потихонечку заканчиваю свою книжечку "Власть культуры". Возникает идея с оформлением. Практически надо наработать еще один публицистический слой.
Думаю о письме Дорониной об организации при институте актерского факультета. Для института это что-то новенькое.
5 ноября, вторник. Марбург. Никогда не предполагал, что придется увидеть этот город во второй раз. Все тот же замок, видимый с шоссе из Франкфурта, все тот же франкфуртский аэропорт с его бесконечным лабиринтом переходов, все тот же встречающий нас на своей машине толстый Гюнтер. Еще накануне, в Москве, уже стало известно, что Гюнтер встретит нас на полчаса позже, минуя всю процедуру, у стойки "Аэрофлота". Это были прекрасные полчаса, когда можно было наблюдать публику и разглядеть удивительное здание. Я должен сказать, что в аэропортах, где обычно более обеспеченная публика, встречается большое количество просто красивых и хорошо и модно одетых людей. Будто сидишь в кинотеатре и видишь фильм про аэропорт и западную действительность. Боже, какая вольготная и свободная жизнь, почему-то нет толпы и сутолоки, бесконечное количество стоек, какие все спокойные и доброжелательные от сытости люди. Кстати, пока искали стойку, пришлось не один раз обращаться к персоналу — и тут я заметил, что среди этих немок, говорящих на прекрасном немецком языке, очень много турчанок, африканок и вообще женщин с иными, нежели у немцев, лицами. Достаток и спокойствие цивилизуют и ассимилируют быстрее, нежели нищета, насилие, ненависть и неприятие. А позже, когда мы с толстым Гюнтером — чадолюбивый Гюнтер, оказывается, забирал детей из школы — мчались по шоссе, я подумал, что богатство страны созидают порядок, люди и их количество. Каждая пара рук, даже чужих "этнически", черных или в крапинку, прибавляет и присовокупляет богатство страны.
Уже в аэропорту я узнал, что лечу не один, как мне раньше сказали, а вместе с Викторией Токаревой и Леонидом Бородиным. Леня просто окликнул меня, когда я уже стоял на регистрацию. Я тут же вспомнил двухлетней давности кошмарную историю с его деньгами, взятыми для передачи кому-то в Германию, которые я забыл в Москве. Я убирал перед самым отъездом, уже в плаще, за заигравшимся и наделавшим на паркете лужу щенком, и конверт с деньгами, который я постарался положить поаккуратнее, во внутренний карман плаща, сполз по шелковой подкладке и упал на пол, я заметил это, я его поднял, положил на письменный стол, чтобы забрать немедленно, что-то меня отвлекло, конверт остался на столе. Не писал ли об этом два года назад в своем diary? Значит, тогдашний ужас запомнился очень сильно. Я тут же, так сказать, прямо на поле боя, стал объяснять Лене, где я обнаружил отсутствие конверта, как в состоянии аффекта я тогда же прорвался через таможенный контроль, выскочил на площадь: машины с С.П. и шофером уже нет, а я еще надеялся, что свою пропажу найду где-нибудь на полу в автомобиле. И уже в Марбурге, когда мы на машине Гюнера, такого толстого, что садились передние рессоры, проезжали крошечный город, я снова завел прежнюю тему и, будто оправдываясь и обкладывая свои вымыслы реальностями, принялся показывать здание главпочтамта и те, выкрашенные желтым, телефонные автоматы у входа, откуда я звонил в Москву, и Валя ответила мне, что никаких денег не видит. Ужас своего немедленного, у автоматов, планирования — где достать, где взять, у кого перезанять и чего себя лишить — я здесь не передаю.
И потом, наверное, и в момент этого проезда меня всегда поражало одно: ничего в этом городе внешне не меняется. Кажется, те же вещи на витринах, те же горшки с цветами на подоконниках. Я бы не смог здесь жить. О чем хотя бы писать свой diary? Сколько за это время случилось и сгорело у нас в России!
К сожалению, не могу описать ни нашу встречу с Викторией, ни наш перелет в три часа, ни наши разговоры. Вика, конечно, очень непосредственный человек, у которого все получается шутя и играючи. Мне бы надо завидовать ее таланту, ее легкости, удачливости в делах, ее изысканности и откровенности. Но при всей ее очаровательной коммуникабельности я не могу всю ее удачливость в литературе и делах отнести только за этот счет. Вика рассказала поразительную историю женитьбы ее отца, видимо, чистого разлива петербургского жителя, на ее матери. Мальчик, худенький и узкоплеченький, поехал на практику во время голода на Украину и встретил юную восемнадцатилетнюю девушку — "много розового и сладкого мяса". Поехала она с ним в Ленинград только потому, что расправлялся со всеми неимоверный голод. А на кой молоденькой и красивенькой девахе этот цыпленок? Стараюсь передать все ближе к Викиному тексту. А когда цыпленок, под влиянием огромной родни, собравшейся внезапно в огромной столовой, в доме на Невском — они молча воззрились и на своего кровного молодого петушка и на некошерную курочку: кого ты, дескать, Моня, нам привел? — вот когда цыпленок-петушок, осаженный родственным благоразумием, вдруг сказал: "Ты, голубушка, поезжай пока домой, мне надо служить в Красной армии", тогда скромная некошерная девица молвила своим не самым тихим голосом: "Дак, с какими якими очами я отсюда стикаю?". И осталась. Все события дальше должны были привести к появлению сначала на свет, а потом и в литературе писательницы Токаревой.
Может быть, когда-нибудь мне удастся включить в дневник и разговоры с Бородиным. Я много с ним встречался, но плохо его знаю. По крайней мере, в его высказываниях есть русская печаль обреченности и есть трезвость понимания: я писатель-самозванец и всем своим литературным успехом обязан политике. Кстати, когда он вышел из лагерей, на его счету было 52 тысячи марок. Его дела вели за него "Грани" или "Посев". Сейчас с деньгами пусто. У него тоже, как почти у всех нас, русских, нелады с критикой. По словам Вики, мы оба с Леней числимся по ведомству антисемитов. Может быть, это справедливо в той части, что до вступления в литературу, лет до 35–40, мы об этом экстравагантном чувстве и не помышляли. Школа советская привила нам эту вакцину.