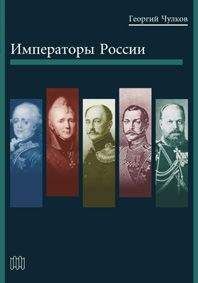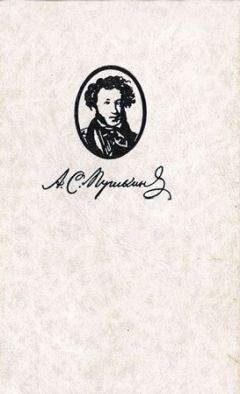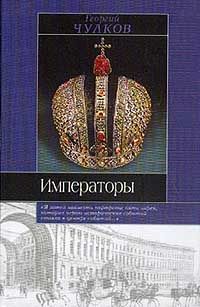Георгий Чулков - Годы странствий
Он был воодушевлен, и мне нравился все больше и больше. Я вспомнил, как Белинский[1352] ходил смотреть на строившуюся тогда Николаевскую железную дорогу и плакал от умиления, веруя в прогресс. От этих восторгов Белинского и пошел весь наш индустриальный романтизм. Что и говорить — ездить по железной дороге куда удобнее, чем тянуться в тарантасе,[1353] но все-таки едва ли весь этот железнодорожный пафос стоит хотя бы одной слезы умиления. Я даже полагаю, что как-то неловко сентиментальничать по поводу паровозов, когда мы, несмотря на весь этот паровозный прогресс, не подвинулись со времен инквизиции ни на шаг. В отношении морали, конечно. Ну, хотя бы, например, пытки. Ведь пытаем же мы друг друга. Разве газовая война не прямое применение пытки, правда, к иноплеменнику, но ведь это все равно? Да и как способ вести судебное дознание разве теперь пытка не применяется? Применяется, да еще как! Вот тебе и прогресс!
— Плюньте! Работать надо, Макковеев.
— Плюю, товарищ Курденко… Да и работаю тоже по мере сил.
— Да, я знаю, знаю… А насчет вредителей не беспокойтесь: ни одного не останется. Мы и партийных почистим. У нас тоже есть задумчивые. Есть, знаете, такие физиономии. Сразу видно, что человек размышляет. Конечно, это не запрещается. Но как размышляет — вот в чем вопрос. Тут я с вами согласен, Яков Адамович, бывает вредительство даже просто в одних глазах. Ничего человек контрреволюционного не делает, даже не говорит. А в глазах! В глазах!
— То есть что в глазах?
— Да вот это самое вредительство. Говорит с тобою любезно и предупредительно, а в глазах ненависть, а у иных мерзавцев даже презрение. И придраться нельзя. Это вы, пожалуй, правы, Макковеев. Знаете, мне почему-то кажется, что все эти негодяи мемуары пишут. Небось, по ночам, тайно. К каждому шороху прислушиваются, а потом — чуть по коридору шаги — сразу куда-нибудь под кирпич рукопись — и сидят, читают, будто бы какой-нибудь том Ленина. Они первые подписались на полное собрание сочинений Ильича.
— Да, да, — подтвердил я. — Это вы, Курденко, очень проницательно изобразили. Я тоже уверен, что эти все господа непременно мемуары пишут. И сколько там, в этих мемуарах, желчи и злобы, воображаю…
— Да уж, наверное, душу отводят…
Один из Трофимовых сказал боязливо и угрюмо:
— Вот и дай таким свободу печати! Ведь они что напишут! Даже подумать страшно…
Курденко оскалил зубы:
— Бодливой корове бог рог не дает…
VIIIПрошло три дня, а я все еще не могу забыть этого страшного совпадения. Почему Курденко вздумал заговорить об этих «негодяях», которые пишут мемуары и прячут их под кирпич? Я, конечно, очень охотно согласился (и это находчиво с моей стороны), что вредители действительно «мемуары пишут», но у меня все-таки на сердце скребут кошки. Разумеется, моих записок никто не читал, но, может быть, кто-нибудь подсмотрел, что я по ночам пишу. Но как? Дверь у меня всегда заперта; под дверью в щель разве край сапога увидишь; на окнах шторы, да и квартира наша в третьем этаже; кроме того, наш дом стоит в проезде бульвара, и никак уж нельзя ни из каких окон заглянуть в мое окно, да и шторы, шторы… Я нарочно добыл очень плотные… Однако, говорят, у ГПУ замечательные есть методы. Эти необыкновенные люди все знают. От них ничто не может скрыться. В этом отношении наши достижения удивительны. И все-таки решительно невозможно уличить меня в том, что я пишу мемуары.
И вдруг меня ужалила дикая мысль: «Да ведь когда ты просовываешь руку в форточку и вынимаешь кирпич, может ведь кто-нибудь заметить эти твои фокусы!» Я стал утешать себя: «Во-первых, я всегда предварительно осматриваю улицу и только тогда рискую просунуть руку, когда убежден, что на тротуаре никого нет. По ночам по проезду нашего бульвара почти никто не ходит. Во-вторых, если бы кто-нибудь и увидел просунутую в форточку руку, едва ли мог бы сообразить, зачем человек тянется к кирпичу; вероятнее всего, такой прохожий, даже самый проницательный, объяснил бы эту руку тем, что жилец прячет баранью колбасу (дневник всегда у меня завернут в газетную бумагу, и никак нельзя догадаться, что это рукопись — на колбасу очень похоже)».
И тем не менее мысль о том, что моя тайна открыта, засела у меня в голове. Я чувствую, что мне надо немедленно сжечь мою рукопись, и, однако, продолжаю писать, как загипнотизированный. Мало того, я уверен, что вот, написав две-три страницы, я опять полезу на табурет и спрячу под предательский кирпич эти мои страшные записки, разоблачающие мой секрет. Мне доставляло до сих пор наслаждение это мое сознание, что никто, решительно никто не знает моей тайны, что все воображают, будто Яков Адамович Макковеев действительно верноподданный советского правительства, добросовестнейший бухгалтер и больше ничего, и никому в голову не приходит, что этот самый Яков Адамович — ужаснейший вредитель и непримиримый враг советского порядка. Правда, во внешнем мире от моего вредительства ничего не меняется; все на своем месте: враг я или друг большевиков, колесо истории вертится неизменно, и я не могу его остановить или повернуть назад… Казалось бы, зрелище довольно плачевное: в квартире нумер тринадцать живет некий бухгалтер и где-то в самой глубине своей трусливой душонки лелеет контрреволюционные мысли, которые никому не нужны и не страшны. Это с одной стороны, но ведь с другой стороны, этот самый факт можно разъяснить иначе.
А что, если эти мои мысли, не имеющие как будто ни малейшего практического значения, заключают в себе, однако, неотразимую внутреннюю логику, а, значит, убедительность? Ведь, пожалуй, в таком случае эти мысли не менее реальны, чем самый настоящий заговор, за который расстреливают беспощадно сумасбродов. Как бы я ни скрывал своих взглядов, но взрывчатая сила моей энергии, под прессом цензурного давления только увеличивается. Малейшего моего намека, малейшей догадки со стороны или моей чуть-чуть проскользнувшей иронии уже достаточно, чтобы произвести пожар. А тут еще рукопись — это уж настоящий провод, ведущий к адской машине. Но рукопись — под кирпичом. Рукописи нет. А вдруг Курденко догадался? Правда, он не следователь ГПУ, но он честнейший коммунист и уж, конечно, узнай он в самом деле о существовании такой рукописи, немедленно сообщит куда следует. А что тогда? А тогда даже не смерть, а хуже смерти — отсутствие комфорта: в тюрьме нет комфорта и в Нарыме тоже нет комфорта. Я не шучу. Больше всего на свете я люблю комфорт. Разумеется, не надо его понимать узко. Я, конечно, люблю основательно мыться, ежедневно принимать душ, разумно питаться, спать в хорошей постели, пользоваться библиотекой, но комфорт не только в этом. В тюрьме, конечно, ничего этого нет, но там нет и кое-чего поважнее — нет уединения. Там торжествуют по-настоящему коммунисты. Это самое страшное. Это самая унизительная пытка. Правда, для важных злодеев существуют одиночки, но такая механическая изоляция вовсе не то желанное уединение, которого ищет человек. Одиночка так же унизительна. Но одиночка все-таки лучше. В понятие комфорта входит, между прочим, непременным условием свобода. Вот в ней-то, свободе, и вся суть.