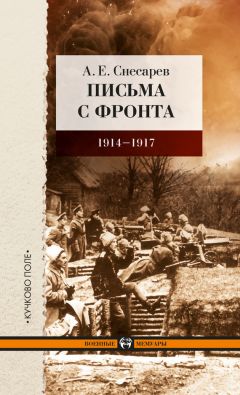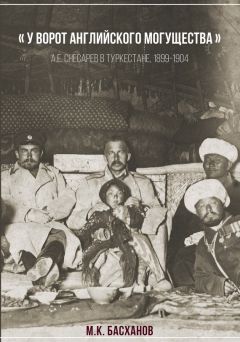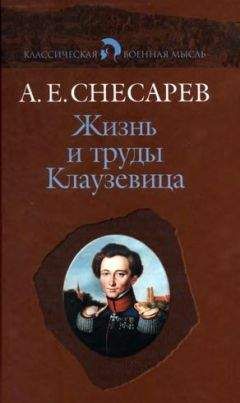Виктор Будаков - Генерал Снесарев на полях войны и мира
Но воспоминаниями здесь прожить не дают, и Снесарев с тоской думает, как неумолимо несёт рок почти обезбоженную страну, и если она хотя бы в чём-то похожа на северные лагеря, добра не ждать. Он уже не удивляется жестоким особенностям лагерного быта, но его мучает, что крестьянство и интеллигенция даже не пытаются постоять за свои права.
Тем более его радуют сильные, смелые и честные люди, которые, слава Богу, не переводятся на русской земле. В его палатку, избыточно наполненную узниками, подселили Вячеслава Дмитриевича Вир-ского из Ельца. Не без гордости помнит, что он, как и Снесарев, выпускник Алексеевского пехотного училища. При аресте и следствии безбоязненно изобличал следователей и власть, а на вопрос: «Агитировал ли?», отвечал беззаминочно: «Да». Снесарев сострадательно спросил: «Зачем вы это делали?» — на что бывший воин ответил: «Я рад, что сослан, стыдно как-то было оставаться».
Разумеется, на каждого апостола одиннадцать иуд, на каждое разумное начинание дюжина безрассудных, а каждое тихое пребывание здесь добрых Божиих созданий вытесняется неудельными, наглыми, крикливыми, даже и представительниц прекрасной половины рода человеческого: «До сих пор у нас были тёмные (женщины в тёмном), больше монахини, кулачницы, девотки, тихие, трудолюбивые. Вместе с последними этапами появились иного сорта женщины: короткие в обтяжку юбки, длинные чулки, красивые кофты, обнажённые бюсты, руки и ноги. У них короткие волосы. Они наглы, ругаются и к вечеру пьяны. Это сосланные публичные женщины. Они несут с собою новую обстановку, увлекают мужчин и вообще развращают массу. Обыкновенно женщины не ругаются, а эти превосходят самых ругателей-мужчин».
Позже он побеседует с бывшей монахиней Гликерией Черниковой. Глушей. Она, поставленная на стирку белья, так и останется монахиней. «Грязь отстаёт от неё, омываемая ручьём её прочного миросозерцания. “Мы и там трудились, этим нас не испугаешь, нас также никуда не пускали, нам только церкви не хватает”. Она из строгого монастыря и по сию пору в восторге от его порядков… Теперь к ним прибыли публичные, она говорит о них и с недоумением, и с сожалением, и с негодованием… Как важна религия в смысле государственной прочности и вынесения страданий».
5
Гнетущее впечатление, усугубленное перед тем украденным у него куском сала, оставляет у Снесарева первомайский день.
«Около 7–8 часов вечера под игру оркестра пошёл на пост… Оркестр играл до сумерек, один пароход был украшен фонариками. На реке шла какая-то суетня, вероятно, ловили плоты или брёвна, и слышалась ругань. Разговор всех прохожих касался речки, плотов, нужд… один только сказал про заутреню… Долго гудел колокол деревни Важино… Обстановка была далека от торжественных моментов, и только наплыв воспоминаний несколько её скрашивал. Мне было грустно и одиноко, грызла тоска по семье. Как-то они там проведут этот день?.. Около часу ночи меня сменил Лосев, и я пошёл. В палатке все спали, стоял обычный “тяжкий” дух… Оркестр с расстроенными инструментами, играющий шаблонные вещи, кусок кеты… Это говорило об убожестве административно-педагогической мысли, а главное, о тягчайшей нищете, прогноившей нашу страну и везде показывающей свои зияющие раны…»
Снесарев и здесь думает о трагедии страны, думает о педагогике, частной и общей, благодаря которой народ, его молодые поколения могли бы выжить. А кругом — гнусный быт: лгут, крадут, пьют. Партия проституток — именно партия. Но колокола ещё звонят.
Сразу после первого майского дня Андрею Евгеньевичу и его учёным сотоварищам по несчастью приказано перебраться в новую палатку — просторную, но к житью непригодную: без окон и дверей, без печи, лампы, рукомойника…
Он не то что возмущается, но его удивляет, что из угла в угол швыряют именно учёных, относительно которых есть определённый декрет: дескать, советское правительство не заинтересовано в дисквалификации своих учёных, и в ссылках они должны иметь возможность читать, писать, чертить.
Снесарев, Лосев… Ответственность за бревна и доски, несколько якорей и три десятка цепей. Разве что вечные цепи для нашего народа. А так никому не нужные якоря и доски, всё реально и чисто символически закрепляет и угробляет. А был ответствен за большие территории, за десятки тысяч солдат. За Россию!
Можно предположить, сколько бы эти два человека могли сделать, будь они не в лагерных условиях, объедини они усилия. Один бы сказал о геополитическом облике России и мира, а другой о красоте Античного мира и православном духовном величии России. С другой стороны, что может сказать стране и миру человек, не прошедший предельных испытаний! Разумеется, их проще проходить молодому, как Лосев. А в старости — надломишься и угаснешь в болезнях.
Два сторожа. Два великих человека. Иногда ответственный Снесарев не принимал нарочитых бесшабашности и неисполнительности Лосева, а тот был молод. Но он уже принял тайный монашеский постриг, ещё до ареста — он инок Андроник.
Хорошо, хоть не переселяли из лагеря в лагерь, но внутри Андрею Евгеньевичу приходилось в день, в ночь ли сменять свои обитальче-ские углы. Привели новых заключённых — опять надобно подвинуться, теперь — на чердак. Бестолковщина передвижений, переселений, перетасовок. После чердака снова перенаселённая палатка.
«Палата наша полна урок, а оттуда — шум, мат, болтовня, брань, нервность, пение, пляс… целый ад. Урку я теперь узнаю за версту, настолько он типичен. Он жесток, шумлив, нервен, по-своему самолюбив, хороший актёр, циничен, грязен… Его внешность также типична: чаще небольшой рост, худоватость, неуклюжесть в корпусе и походке, какое-нибудь уродство (шрам, раскосость, безручие, безножие). Словом, физически он так же противен, как и духовно. И прежде всего полная аморальность и враньё. Эти люди — пустой балласт страны…» Чуть раньше скажет грустно-справедливое, обратного хода не имеющее: «Когда дерево прогнило насквозь, его не отходить ни поливкой, ни другими мерами. Урка — прогнившее дерево!»
Вскоре Андрей Евгеньевич увидит их в деле — перевозящих на лошадях бревна-баланы. Зрелище было сердцеразрывающим. Бедная лошадь, попавшая под кнут урки: «Да он убьёт отца родного, если последний ему не угодит, а бедная лошадь? Что ему Гекуба? Он нарочно станет над ней измываться…»
(Для Снесарева конь был другом с юности, и выручали его кони на Памире и в Карпатах, на Ужка был похож несчастный коняга здесь, и ныло сердце от человеческой жестокости.)
Май на Русском Севере неровный: то тихий и тёплый, то ветреный и холодный. Природа далеко отстоит от тропической, близко — к арктической, всё есть, но не крикливое, не яркое. Распускаются деревья. Проволочно-околюченный мир оглашают вольным щёлканьем многочисленные соловьи, из певцов, правда, малозатейливых, трёхтрельных. Иные соловьи, карпатские, вспоминались Снесареву, которые не боялись ни оружейного огня, ни грома пушечного, которые своими яростными перещёлками утверждали жизнь.