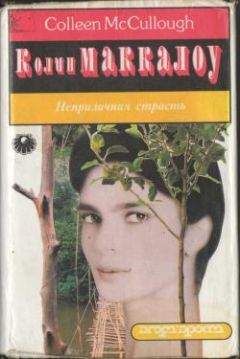Корней Чуковский - Современники: Портреты и этюды (с иллюстрациями)
Ей же о скульпторе Антокольском:
«…Дяденьке Вашему я на поклон не отвечаю… Я более ему не верю и притворяться любезным не могу».[194]
Мне он тоже не раз, когда дело касалось дорогих ему мыслей, писал очень резко и жестко.
Как-то мы были с ним в Русском музее, и я, проходя теми залами, где висели картины Крамского, бестактно сказал что-то вроде того, что куда же Крамскому до Репина.
Он посмотрел на меня с уничтожающей ненавистью, убежал в другой угол и всю дорогу домой — мы ехали вместе в поезде — казнил меня сердитым молчанием.
Когда же я позволил себе через несколько лет вновь отозваться без достаточной симпатии о каком-то произведении Крамского, Репин обрушился на меня с такими упреками:
«О Крамском — Вы поверхностно неправы… И о большой его идее Вы судите без света в душе… Там надо глубоко уважать колоссальный труд — Мастера!.. И нельзя ковырять с кондачка явление, где ухлопаны годы глубоких усилий…»[195]
Темперамент у него был воистину репинский. Из его писем мы знаем, что однажды он чуть не запустил в пейзажиста Куинджи чернильницей. И сколько в этих письмах восклицательных знаков: не довольствуясь одним восклицательным знаком, он ставил их по три, по четыре подряд.
Пылкость его темперамента сказывалась и в его мемуарах. Вот, например, в каких выражениях пишет он о своих музыкальных восторгах:
«Хотелось скакать, кричать, смеяться и плакать, безумно катаясь по дороге… О музыка! Она всегда проникала меня до костей».
В таком же темпераментном стиле он описывал восторг своей первой любви:
«Я был влюблен до корней волос и пламенел от страсти и стыда», «Огонь внутри сжигал меня. Остолбенев, я горел и задыхался».
Чаще всего его пылкость проявлялась в гиперболической чрезмерности похвал.
Вот, например, характерные отрывки из его писем ко мне, главным образом по поводу мелких, давно забытых газетно-журнальных статей:
«Радуюсь Вашей феноменальной прозорливости…»
«Вы неисчерпаемы, как гениальный человек…»
«Если бы я был красивой, молодой женщиной, я бы бросился Вам на шею и целовал бы до бесчувствия!..»
«Вы человек такой сверхъестественной красоты и таланта; Вы так щедро разливаетесь ароматным медом…»[196]
Я привожу эти похвалы без смущения: я знаю, что, когда будут собраны тысячи репинских писем к тысячам разных людей, большинство его адресатов окажутся «людьми сверхъестественной красоты и таланта».[197]
Привести его в восторг было нетрудно. Когда я, в качестве редактора его мемуаров, расположил написанные им отдельные части в определенном порядке, то есть сделал в высшей степени ординарную вещь, не требующую никаких специальных умений, он прислал мне такое письмо:
«Восхищаюсь вашей перетасовкой — мне бы никогда не додуматься (?!) до такого сопоставления, этой последовательности рассказиков, — ясности, с какой они будут оттенять читателям куншты, — спасибо, спасибо! Я знаю, это плод большого мастера».
Все его восторги были искренни, хотя людям, не знавшим Репина, в них чудилась порою аффектация.
Поначалу и я, признаться, считал его похвалы подогретыми. Прошло немало времени, прежде чем я убедился, что в каждом своем восклицании Репин был предельно искренен.
Открылась в Петербурге выставка «левых» иностранных художников под названием «Салон Издебского». Этот Издебский, человек разбитной и учтивый, в очень туго накрахмаленной манишке, был у Репина в Финляндии, пригласил его на вернисаж своей выставки. Репин кланялся, благодарил, провожал его до ворот и еще раз кланялся и прижимал руки к сердцу. В назначенное время Илья Ефимович приехал на выставку. Издебский, сверкая манишкой, встретил его на лестнице и стал рассыпаться в любезностях, и Репин снова кланялся, прижимал руки к сердцу и говорил ему приятные слова.
А потом вошел в залу, шагнул к одной картине, к другой и закричал на всю выставку:
— Сволочь!
И затопал ногами, и стал делать такие движения, будто хотел истребить все кругом.
Издебский было разлетелся к нему, но Репин в исступлении гнева мог выкрикивать только такие слова, как «карлик», «лакейская манишка», «мазила», «холуй», и эти слова сдунули Издебского, как буря букашку.
О таких приступах гнева можно говорить все, что угодно, но ни притворства, ни фальши в них не было.
Помню, у меня на террасе во время мирного чаепития Репин в присутствии художников Сергея Судейкина и Бориса Григорьева заспорил с футуристами Пуни и Кульбиным об одном ненавистном ему живописце и все порывался в ослеплении гнева схватить руками жаркий самовар. Я несколько раз отводил его руки, а он тянулся к самовару опять и опять и даже ударил меня по руке, а потом всхлипнул и, не прощаясь ни с кем, выбежал без шляпы из комнаты. Побежал на взморье к песчаным буграм и, когда я кинулся его догонять, отмахнулся от меня с отвращением, словно я и был ненавистный ему живописец.
О таких приступах безумного гнева вспоминает он сам в своей книге. Ему было лет пятнадцать-шестнадцать, когда какой-то верзила Овчинников, страстный поклонник его дарования, взял у него без спроса его автопортрет и понес показывать знакомым.
Репин помчался за ним. «Я, клокочущий негодованием, не отвечая на приветствия милых барышень, быстро, решительно вырываю портрет у Алкида и трясущимися руками разрываю его на мелкие части.
— Это, — продолжает он, — вышло так отвратительно, что я сам не в состоянии был дальше ничего ни видеть, ни слышать».[198]
Так же гневлив был он в старости.
Издатель Сытин приобрел у него книгу мемуаров «Далекое близкое», приобрел очень дешево, но потом устыдился и решил немного прибавить. Эту прибавку должен был передать ему я. При деньгах была такая записка: «Ознакомившись с вашим прекрасным трудом, мы считаем приятным долгом препроводить вам дополнительное вознаграждение в сумме 500 рублей».
Эта скаредная «щедрость» издателя оскорбила Илью Ефимовича.
Он выхватил у меня деньги, скомкал их, швырнул на пол и начал топтать.
— Бездарность! — кричал он. — Хам!.. Бородка!.. Сапоги бутылками! Вот, вот, вот!..
Насилу вырвал я у него из-под ног надорванную, смятую бумажку.
Слово «бездарность» было самым страшным ругательством в его устах; он произносил это слово с такой безысходной тоской, словно бездарность людей была для него личной обидой.
Вообще, если у него была большая способность преувеличенно восхищаться людьми, то такая же способность была у него ненавидеть и гневаться. «Филосошка! — кричал он о Философове. — Сошка! Куриная головка на ходулях!»