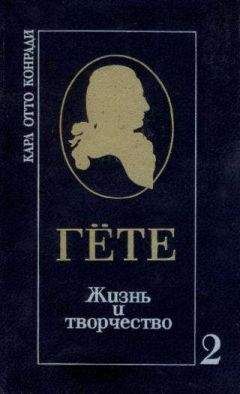Карл Отто Конради - Гёте. Жизнь и творчество. Т. I. Половина жизни
Однако одно основное положение в собственном отношении Гёте к христианству осталось неизменным: веру в Иисуса как Христа, как вновь восставшего из мертвых сына божьего, он не мог принять. Он не верил в провозглашавшиеся христианскими церквами доказательства всеблагоста и был убежден, что лишь тот по праву может называть себя христианином, кто твердо в них верит. В этом смысле очень точным было его замечание в письме Лафатеру от 29 июля 1782 года: что он, правда, не противник христианства, не неверующий язычник, но все же решительный нехристианин. Он способен был высоко ценить христианскую этику и пользоваться такими понятиями, как вера, любовь, надежда, взять их для себя в качестве притязания и обета; он способен был восторгаться приверженностью вере у других людей и уважал это; его вовсе не привлекала возможность устраивать борьбу с христианской верой — и именно поэтому он ощущал себя не «противником христианства» или «неверующим язычником», а не верящим в Иисуса, воплощенного в Христе, и, следовательно, «решительным нехристианином». Он прибегал также в собственных сочинениях к христианским символам и образам христианской мифологии, поскольку он одновременно мог не обращать внимания на средоточие христианской веры.
Именно в итальянских заметках не раз четко проявилась его позиция решительно настроенного нехристианина, который способен был и на весьма острые полемические выпады. Архитектура собора святого Марка в Венеции представилась ему «достойной какой угодно чепухи, которую когда-либо могли совершать или же учить внутри его». При созерцании «Святой Цецилии» Рафаэля ему хватило придаточного предложения, чтобы освободить себя от подозрения в вере: «Пять святых рядом друг с дружкой, ни до одного из них нам, собственно, дела нет, но их земное бытие воссоздано так совершенно и несомненно, что картине этой желаешь вечной жизни, примиряясь даже с мыслью, что сам ты обратишься в прах». Шарлотте фон Штейн он писал 8 июня 1787 года из Рима: «Вчера был праздник тела Христова. Я ведь раз и навсегда потерян для этих церковных церемоний; все эти усилия сделать ложь существующей, имеющей силу представляются мне тщетными, а весь маскарад, производящий большое впечатление на детей и на религиозных людей, кажется мне безвкусным и ничтожным, даже если смотреть на все это глазами художника и поэта. Ничто не является столь великим, как истинное, а даже малейшая истина велика». Его восхищала роскошь папского дворца — и одновременно это было ему отвратительно. «Во всяком случае, папа римский — лучший актер из всех, кто предстает здесь перед толпой» (письмо Карлу Августу от 3 февраля 1787 г.). Мессу первого дня пасхи 1788 года Гёте наблюдал с одной из трибун у пилястров в соборе святого Петра: «В некоторые моменты едва веришь своим глазам, какая же бездна искусства, разума, вкуса столетиями создавали все это, чтобы обожествлять некоего человека еще живым! Мне хотелось бы в этот час сделаться ребенком или верующим, чтобы видеть все в самом прекрасном свете» (письмо Карлу Августу от 2 апреля 1788 г.). Суперинтенденту Гердеру, завершившему свое путешествие по Италии, он писал, соглашаясь с его трактовкой Иисуса как учителя и провозвестника гуманности (в семнадцатой книге «Идей к философии истории человечества»: «По-прежнему справедливо вот что: сказка о Христе есть причина, что мир простоит еще немало лет и никто так и не образумится, потому что потребно столько же силы знания, ума и понимания, чтобы защитить ее, как и опровергнуть» (4 сентября 1788 г.). А до этого он однажды, также в письме Гердеру, высказался очень грубо: «Если бы все учение о Христе не было такой дерьмовой ерундой, которая меня как человека, как ограниченное, низшее существо приводит в бешенство, то сам объект веры был бы мне вполне приятен» (примерно 12 мая 1775 г.). Излишне говорить, что, христианин, отвергающий веру в вознесение, вовсе еще не должен считаться человеком непременно неверующим.
Взгляд в будущее
Самые обстоятельные письма из Италии Гёте слал герцогу Карлу Августу. Искусно составлены эти послания: дружеские по тону, исполненные почтения и преданности, содержащие немало интересных сведений, всегда ориентированные на круг проблем, которые волновали Карла Августа и веймарский двор, — и неизменно освещавшие положение самого Гёте. Он то и дело повторял, что по завершении этого самовольно устроенного и милостиво дозволенного ему герцогом отпуска вновь будет готов служить своему повелителю в любом качестве; однако, заверяя его в том (11 августа 1787 г.), Гёте, несомненно, полагался на чуткое понимание своего вельможного друга, дабы в проводимой им «обновленной жизни» не потребовалось ему более нести прежний груз административных дел в различных ведомствах. Ответы Карла Августа, к сожалению, не сохранились. Но если мы не обманываемся, то за два года, проведенных поэтом в Италии, два друга сумели, не утеряв уважения и взаимного доверия, разграничить сферы своих интересов, причем, думая о дальнейшей жизни и о совместном сотрудничестве, они скорее намекали на имеющиеся расхождения, нежели подчеркивали их. Ни один из них не собирался отрекаться от другого. Гёте уже давно наблюдал, как герцог все больше брал на себя обязательств в вопросах большой политики и, прочно опираясь на своего шурина, прусского короля Фридриха Вильгельма II Прусского, наследовавшего Фридриху Великому, пытался развивать идею создания союза германских князей. В 1787 году веймарский правитель поступил в чине генерал-майора на прусскую службу, что отвечало, с одной стороны, его солдафонским амбициям, а с другой — должно было придать ему дополнительный политический вес: например, в связи с участием в голландском походе пруссаков. Гёте (как, впрочем, и Тайный консилиум в Веймаре) с известным беспокойством наблюдал за всей его деятельностью вне пределов родного герцогства. Из-за такого направления политических процессов, во всяком случае, изменилась общая ситуация, существовавшая в 1776 году, когда поэт решил возложить на себя «вселенскую роль», став тайным советником Веймарского герцогства. Теперь, по сути, потерпела неудачу генеральная концепция, которую проповедовал Гёте в конце 70–х годов: в условиях, где поле деятельности обозримо, располагая дружбой владетельного князя, начать действовать, исправлять и улучшать — и самому осуществиться как личность, «действуя, сочиняя и читая». В результате кризиса, о котором свидетельствовало бегство в Италию, оставалось либо попытаться найти для себя новую роль, либо же — оставить службу и обрести независимое положение. Но, странным образом, Гёте, пожалуй, никогда не принимал в расчет эту возможность, хотя в материальном отношении он был обеспечен за счет родительского состояния. Жизнь свободного художника не была для него выходом из положения. Он ощущал все же потребность быть на государственной службе, ощущать груз определенных обязанностей.