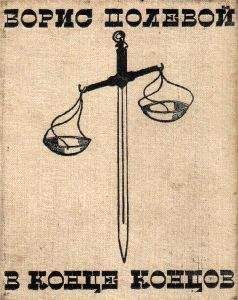Сборник Сборник - Болшевцы
Днем вызывали нескольких молодых карманников. Один сразу согласился итти в коммуну. Теперь он стоял перед Шпулькой, страстным ругателем, и глупо улыбался. Старик осыпал его, язвительными насмешками.
— Куда ты лезешь, дурачок? — говорил он презрительно. — Семь шкур будут с тебя драть, до черного поту. Ссучишься разве, а тогда, сам знаешь, — пропал! Видали мы эти дела. Похуже Рукавишниковки будет.
«Рукавишниковкой» старики пугали уже не в первый раз. Кто-то из молодых поинтересовался, что же там было. Шпулька поманил к себе стоявшего поодаль невысокого толстяка.
— Иди-ка сюда, Чурбак! Расскажи, как тебя в Рукавишниковском уму-разуму учили.
Чурбак любил, когда его слушали. Он сел поудобней, снисходительно оглядел молодых и неторопливо стал рассказывать.
Рукавишниковский приют для несовершеннолетних жуликов находился на Сенной площади, около Смоленского рынка, в мрачном двухэтажном здании.
Чурбак попал в приют перед самой войной, когда ему едва исполнилось двенадцать лет. Малый был толст, коротконог, тяжел и в первый же день получил кличку «Чурбак», крепко прилипшую к нему. Упрямством и кулаками он скоро заработал себе равноправие среди сверстников.
Рано утром будил пронзительный звонок. Отделение, смеясь, шумя, улюлюкая, бежало умываться.
Затем собирались на молитву. Надзиратель, судорожно шевеля бороденкой, читал привычные слова торопливым срывающимся тенорком. Сзади, сохраняя внешнее благоприличие, приютские воспитанники занимались, кому чем нравится. Шиворал и Миха Тертый выразительно показывали друг другу кулаки. Чурбак, как и все, вечно полуголодный, косился на дверь, чтобы одним из первых проникнуть в столовую.
После завтрака начиналось ненавистное торчание в классе. Приютские обычаи были суровы: мальчишка, пытавшийся учиться всерьез, считался отступником, и такого изводили всеми средствами.
Чурбака определили в слесарную мастерскую. Ежедневно после обеда он отправлялся в полуподвальное низкое помещение, где стояли вечные сумерки. Высокий тощий мастер бродил среди ребят, как тихопомешанный. Насколько Чурбак помнил, он никогда ничему не учил, на самые обыкновенные вопросы отвечал, как на оскорбление, свирепым рыком и толчками. Но бывали дни, когда мастер неожиданно впадал в страдальческую слезливость.
— Ну, что ты делаешь? — спрашивал он плачущим голосом, подходя к какому-нибудь ученику. — Разве так рубят? Разве так молоток держат? Утопиться от вас мало. Замучили. Затиранили!
Мастер хватался за голову, так и не объяснив, в чем собственно дело, и бежал по мастерской, сея вокруг непонятные жалобы.
В приюте его звали «Малахольным».
В мастерской делали почему-то одни утюги. Чурбака посадили на обрубку. Год с лишним малый стучал молотком и не знал, куда деваться от скуки. Нередко мастер грозился:
— Ну, ты смотри, Чурбак! Баловать будешь — в медницкую переведу!
Медницкая шла у воспитанников за каторгу. Перевода в медницкую побаивались даже самые отчаянные из ребят.
Чурбак стучал молотком и с нетерпением думал о конце работы. Верстак, тиски, наваленные в груду утюги — все это вызывало тоску и отвращение. Малахольного он ненавидел. По звонку Чурбак бежал из мастерской первым.
По вечерам, после ужина, когда воспитанникам полагалось спать, начиналась настоящая жизнь. Докуривали исподтишка наворованные в учительской окурки, играли в карты, рассказывали похабные истории. Загибали кому-нибудь салазки, т. е. гнули какого-нибудь малыша в три погибели, спящих поливали из кружки водой и поднимали насмех. Били, сговорившись, «в темную» лягавых.
До приюта Чурбак воровал случайно и неумело, здесь же его стали учить всем тонкостям ремесла. Возвращенные обратно бегуны рассказывали о кражах и весело проведенном времени. Рассказы возбуждали фантазию и жажду подвигов.
Вместе с Шиворалом Чурбак вылез как-то через форточку на крышу, оттуда спустился в сад, а из сада через забор на улицу. Город спал, базарная площадь была безлюдна. Легко и свободно дыша, приятели свернули в ближайший переулок, и Москва проглотила их, как пылинки.
У Шиворала братья были опытными карманниками. Они ходили в розовых шелковых рубахах и в лаковых сапогах. Чурбака приняли в компанию и на следующий день повели на «деле». В трамвае неопытный Чурбак с трепетом наблюдал, как старший из братьев спокойно заворачивал поддевку какого-то купчика, тогда как другой толкался и лез мимо, отвлекая внимание. Спустя неделю обнаружилось, что Чурбак — вор вообще не из удачливых. При первой же попытке самостоятельно залезть в карман к какой-то необъятной бабище его поймали и здорово намяли бока. В следующий раз вместо бумажника он вытащил записную книжку.
Братья сказали напрямик:
— Работать с тобой нам не рука! Вора в тебе нет! Ищи себе другую компанию.
Чурбак спустился ступенькой пониже. На базарах он стал тянуть с лотков, обирать пьяных, при случае лез и в карман. Удачи не было. Вскоре его поймали и опять водворили к Рукавишникову.
На этот раз Чурбака, одаренного музыкальным слухом, начальство определило в приютский оркестр. Он дул в кларнет с наслаждением. Звуки будили в нем радостное волнение. Щеки его раздувались, глаза становились влажными, и вся его фигура выражала в такие минуты блаженство. Но даже музыка не могла скрасить серых и тягостных дней.
Как-то во время обеда заглянул сам Рукавишников. Это был известный богач, о котором по Москве ходили анекдоты. На базарах он бил у баб горшки и платил не считая. Скупал нательные кресты людей, наложивших на себя руки. В ресторанах мазал лакеев горчицей и давал баснословные суммы «на чай». Приют на Сенной площади был одной из таких его причуд.
Кругленький, пухлый человечек с огромной лысиной ходил между столами и сладко улыбался. Он торопливо крутил головой из стороны в сторону и высоко поднимал брови, словно раскрывавшаяся перед ним картина была полна чудес.
По случаю приезда «благодетеля» воспитанников кормили блинами со сметаной.
Чурбак макал в чашку блин и следил глазами за ненавистным толстяком. Он не мог бы сказать, почему этот человек возбуждал в нем яростную злость, но, глядя на него, чувствовал, как дрожат ноги. Лучезарный старик Рукавишников подсел рядом и ласково спросил:
— Ну, как, сынок, живется? Доволен ли? Хорошо ли кормят? Слушаешься ли воспитателя?
Вместо ответа Чурбак неожиданно для самого себя что есть силы шлепнул блином по сияющей лысине.
По розовому лицу потекли мутные жирные струйки. Старичок втянул голову в плечи и мелкой трусцой побежал к двери. Вслед, как по уговору, стаей полетели блины. Столовая выла, гремела, рычала и улюлюкала. Грохались об пол ложки, тарелки. В приюте часто вспыхивали такие на первый взгляд бессмысленные бунты. Чурбака качали как героя.