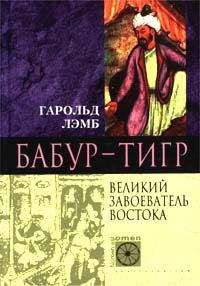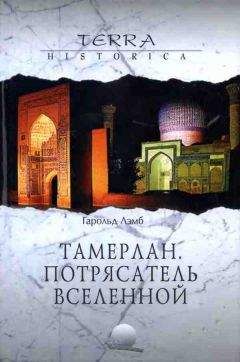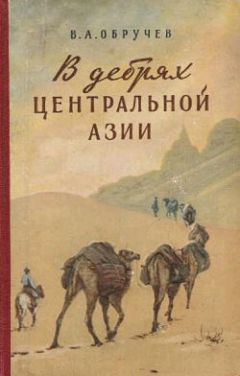Константин Симонов - Истории тяжелая вода
Вечно не высыпавшегося Ортенберга за эту минутную паузу уже снова начинало клонить ко сну.
— Слушаю вас, товарищ полковой комиссар.
— Что вы пришли?
— Вы меня вызывали?
— Зачем я вас вызывал?
— Не знаю, товарищ полковой комиссар.
— Идите.
Проходило несколько минут. Ортенберг мучительно думал: зачем же он звал Певзнера, и затем обязательно или вспоминал, или придумывал, зачем бы его вызвать, и снова по степи разносилось:
— Певзнер!
В крайней юрте постукивала на машинке машинистка. Она была единственная женщина в нашем лагере и занимала целую юрту. Была она очень хорошая, очень тихая и не очень красивая женщина. Когда я приехал, старожилы рассказывали легенду, как Ортенберг в заботах о том, чтобы у него в редакции комар носу не подточил, выбирал для нашей «Героической красноармейской» машинистку. Ему сказали, что он может взять для газеты любую машинистку из семи или восьми находившихся в то время в распоряжении политотдела. Он вызвал их всех, долго задавал им всякие несущественные анкетные вопросы, а сам тем временем исподволь выбирал, какая понекрасивее. Наконец выбрал и, счастливый, увез ее в редакцию. К сожалению, она еще и не очень быстро печатала.
Четырнадцатого или пятнадцатого сентября был последний большой воздушный бой. Только в поле нашего зрения в разных местах упало по крайней мере полтора десятка самолетов, а всего, кажется, за этот день мы сбили их не то тридцать, не то сорок.
На следующий день с утра мы помчались на Хамардабу. Были получены сведения, что сегодня в нейтральной зоне начинаются переговоры с японцами. Хотя лишних людей не брали, но мне удалось присоединиться к Ортенбергу и Ставскому, и часа через полтора или два мы наконец доехали до передовых, замыкая колонну из шести или семи машин.
Место будущих переговоров представляло собою гряду невысоких песчаных холмов с узкими лощинами между ними. В одной из этих лощин, прилепясь сбоку к подножию холма, стояло, вернее, почти висело одинокое кривое дерево, первое дерево, которое я увидел здесь.
Мы вышли из машины. На основании всего предыдущего не было причин особенно доверять японцам. Позади нас, замаскированные ветками, стояли несколько танков. Пулеметы тоже были наготове.
Полковник Потапов, заместитель Жукова, согласно предварительным переговорам по радио, должен был в этот день встретиться с японцами в нейтральной зоне, между нашей колючей проволокой и их окопами, для того чтобы договориться о месте ведения дальнейших переговоров.
Впоследствии Потапов командовал 5–й армией под Киевом и, тяжело раненный, попал в плен к немцам. А дивизионный комиссар Никишев, который был членом Военного совета нашей армейской группы на Халхин-Голе, также под Киевом застрелился.
Потапов был худощавый, высокий, чуть-чуть резковатый, но при этом подтянутый и в чем-то самом главном безукоризненно корректный человек, то, что называется «военная косточка». Этот день был для него последним его полковничьим днем. В ходе переговоров выяснилось, что японцы намерены направить завтра в качестве главы своей комиссии по переговорам генерал-майора. Жуков, не желая заменять Потапова кем-то другим и в то же время не считая возможным, чтобы наш представитель был в меньшем звании, чем японец, запросил Москву, и там присвоили Потапову очередное звание комбрига, в котором он на следующий день и явился на переговоры.
Мы, человек десять или двенадцать, перевалили через сопочку, спустились по ее откосу и подошли к нашим проволочным заграждениям. Впереди была ничья земля и японцы. Позади нас были молчаливые желтые холмы, за грядой которых — мы знали это — все было готово для того, чтобы выручить нас на случай провокации.
Прошло несколько минут ожидания. Японцев не было. Потом на гребне других холмов, метрах в трехстах или четырехстах, появились машины; оттуда вышли японцы и быстро пошли навстречу нашим. Когда они прошли три четверти расстояния, Потапов и еще двое пошли навстречу им. Нам было велено остаться, и мы остались около прохода в колючей проволоке, на несколько шагов выйдя вперед за нее.
Встреча произошла шагах в тридцати от нас. Японцы отсалютовали саблями, наши отдали честь. Произошел короткий разговор. Японцы повернулись и пошли к своим машинам, а наши тоже повернулись и пошли назад.
Как выяснилось, переговоры были назначены на завтра; место было выбрано здесь же поблизости, на маленьком плато, в нейтральной зоне, в километре от наших позиций и на таком же расстоянии от японских. Там договорились поставить три большие палатки: одну для нашей делегации, другую для японской и третью, центральную, для заседаний. Устройство этой центральной палатки брали на себя японцы.
Число членов делегаций с обеих сторон было определено, кажется, по пять человек. Ставский устроился в состав делегации в качестве писаря, что вызвало у всех в штабе группы веселое оживление. Но он непременно хотел присутствовать при всех переговорах, а другой вакансии не было, и Ставский вечером срочно разыскивал четыре старшинских треугольничка вместо своих шпал.
Мне было обещано, что я смогу находиться в этой нейтральной зоне в нашей палатке. Насчет присутствия в палатке для переговоров сказали, что об этом не может быть и речи.
Но к этому времени во мне уже начинала пробиваться жилка военного корреспондента, и я решил, что главное — забраться завтра в нейтральную зону, в нашу палатку, а там будет видно!
Вернулись к себе в Баин-Бурт поздно ночью, а на рассвете выехали обратно на переговоры.
Жалею, что ничего не записывал тогда. Три дня переговоров с японцами, на которых мне тогда пришлось присутствовать, изобиловали многими любопытными, а подчас и значительными подробностями. Не хочется сейчас придумывать, пользуясь памятью как канвой, а поэтому — только о том разрозненном, что действительно помню.
Вторая половина сентября в Монголии в тот год была уже по-зимнему холодной и ветреной. Ехали мы с Ортенбергом и Кружковым издалека и рано и, когда добрались до нейтральной полосы, отчаянно прозябли. Вылезли из «эмочки» на холод, дрожа в своих шинелях. Ветер гнул траву, высоко над горизонтом стояло по-зимнему холодное и неяркое солнце; вдали виднелись желто-серые отроги Хингана, а до них тянулась гряда больших и малых желтых холмов. Невдалеке за ближними из этих холмов что-то курилось, может быть, стояли походные японские кухни, а может быть, жгли трупы убитых.
В лощине, где вчера встретились парламентеры, уже стояли три палатки: ближняя — наша, к ней был проведен телефон из штаба, потом, метров за сто, центральная — большая шелковая палатка, похожая по форме на что-то очень знакомое — не то на памятные по детским книжкам рисунки княжеских походных шатров, не то на шатры из половецких плясок в «Князе Игоре». Еще дальше стояла третья — японская — палатка.