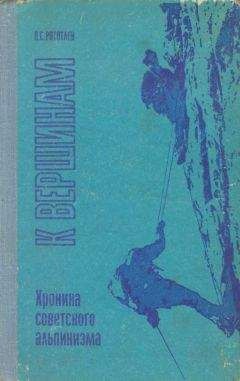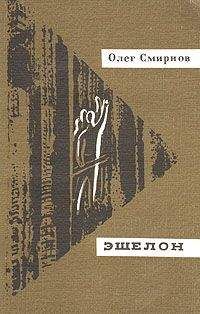Олег Смирнов - Эшелон (Дилогия - 1)
Правда, разнобой: тот Рязань предсказывает, тот - Казань, тот Вологду. Откуда берут сведения? Из сообщений ОБС - одна баба сказала. Женщины болтливы, это факт. Однако и мы, мужики, не всегда им уступаем. Почему Вологда? Почему не Сызрань? Ейбогу, болтуны.
Но поразительней всего то, что о тренировочных посадках в эшелон знала и Эрна. Ночью она сказала мне:
- Будете садиться в эшелон? Завтра учеба, а послезавтра и в самом деле уедешь?
И схватила мои руки, принялась целовать. Я еще не раздевался, еще не было между нами ничего, а она целовала и целовала мои руки, и я ощутил на них мокрое, теплое.
- Не плачь, Эриа. Когда-нибудь я ведь должен уехать.
- Понимаю. Но без тебя будет тяжело. Вот в городе все радуются, когда русские солдаты уезжают домой, и мама радуется.
А я тоскую, я понимаю: сейчас уезжают они, а потом уедет и мой Петья... Ты мой?
- Твой, твой.
- Иди ко мне...
Я не высыпался, по утрам лень было вставать, хотелось поваляться, побыть с Эрной. Но в это утро поднялся решительно.
Умылся холодной водой из крана. Побрился, изучив в зеркальце свою исхудавшую, осунувшуюся физиономию - в подглазьях синева. Насвистывал опереточный мотивчик и разумел, почему у меня настроение отменное. Потому что сегодня учимся посадке в эшелон, а завтра либо послезавтра, глянь, и натурально уедем. Домой, в Россию!
На железнодорожную станцию шли с полной выкладкой, но легко, ходко, с песнями и посвистом. Вижу, у всех великолепный настрой. Еще бы - Казань или Рязань маячат. А в Кушку не хотите? Да и Кушка подойдет, лишь бы на родину, в Союз, к своим.
Тем более - пущен очередной слух: в Союзе дивизию расформируют - и все по домам.
На станции полно войск и техники. Расцепленный на части состав облеплен людьми: тренировка уже идет. Мы подходим к выделенным нашему полку крытым вагонам и платформам, и потеха начинается. Покрикивают командиры: "А ну, больше жизни!" - покрикивают солдатики: "Раз, два - взяли! Еще раз взяли!" Солдатики выполняют команды с ходу и с рвением, всех охватывает азарт. Кто-то поет, кто-то матерится. Ржут лошади. Свищет маневровый паровоз.
Подкатываются пушки, подводятся кони, волокутся ящики и тюки сена, катятся бочки. С погрузочно-разгрузочных площадок бойцы заводят в вагоны лошадок, на платформы с откинутыми бортами закатывают пушки, повозки, полевые кухни. Последней в теплушки садится матушка-пехота - это ей раз плюнуть. Затем принимаемся за выгрузку.
Поодаль, у разбитого вокзальчика, за погрузкой-разгрузкой наблюдает дивизионное и полковое начальство: полковник и подполковник взглядывают на часики, многозначительно покачивают головами. Что, не укладываемся в срок? Стало быть, нас будут гонять еще с этой погрузкой-разгрузкой. И точно: нас гоняли до седьмого пота. А жара уже летняя, основательная.
Трижды мы погружались и выгружались - с неизменным удовольствием, распаренные, усталые, возбужденные. Это было похоже на игру взрослых, непосредственных, по-детски радующихся и самой игре, и тому, что за ней последует.
А я, по совести, не совсем уяснил, для чего, собственно, нужны эти тренировки. Чему тренироваться? Ну, взяли и сели в эшелон, только и деловито. Вот как сейчас. Комбат пояснил:
- Видите ли, Глушков, на погрузку отводится определенное время. Так же, как и на выгрузку... Командир полка поставил задачу: суметь погрузиться досрочно.
- А зачем досрочно?
- Разве плохо, если мы опередим график?
- Но что это даст? Для чего опережение?
- Для пользы службы, - сказал комбат многозначительно.
А гвардии старший лейтенант Трушин ухмыльнулся:
- Лезешь не в свои сани, философ. Тебе известно, что на погрузке в эшелоны будет лично присутствовать командир корпуса?
- Нет.
- Ну, а мне известно. Что же, командиру корпуса будет приятно, если мы сядем раньше хотя бы на пяток минут.
- А если вовремя? То уже неприятно? Для формы, для парада все это. Скажешь - нет?
- Скажу! Мы, советские люди, так воспитаны: выполнять все досрочно. И это хорошо, а не плохо. В армии особливо.
- Но всегда ли это целесообразно? Ведь эшелон уйдет по расписанию, а не на пять минут раньше. Как хочешь, но тут я не обнаруживаю смысла.
- Бессмыслица?
- Да вроде.
- Выбирай выражения. - Трушин поморщился. - Как-никак ротой командуешь, соображать бы надо.
- Я и соображаю.
Трушин промолчал, посопел: что, мол, за спрос с этого Глушкова - чудак, краснобай, спорщик. Словом, философ. Не прав ли Трушин? Не слишком ли я философствую, рассуждаю, сомневаюсь? В армии надлежит не сомневаться, а выполнять приказы.
Армия есть армия. Я есть пехотный лейтенант, доктор философских наук это кто-то другой. Это я с победой стал говорливей.
На фронте больше помалкивал. Воевал. Было не до излияний. Теперь же и по пустякам высказываешься. Стоит ли? К тому же тебя не понимают. Либо не желают понять. Как Трушин, например. Разговаривает со мной свысока, поучает, как будто я не ротный. Нет, надо вести себя с большим достоинством. Не кипятиться, не разбрасываться словами налево и направо, знать им цену.
Пора повзрослеть! Не странно ли взрослеть мне, начавшему войну по сути мальчишкой и закончившему ее так, что иной раз мерещится: шестьдесят за плечами.
Абрамкин Фрол Михайлович незадолго перед демобилизацией сказал мне:
- Товарищ лейтенант, заглавное горе мое - сын-старшак сгиб на войне. Я вот после победы и отписал старухе: "Извини, Катерина, что я остался жить, а наш сокол..." Старуха отписала:
"Коли так случилось, чего ж, живи..." И у меня отлегло от души, ровно бы простила она меня...
А май разбегался, набирал скорость, дни мелькали, сливаясь один с другим. Не за горами был июнь, 22 число, которое не переставало меня тревожить. 22 июня сорок первого и 9 мая сорок пятого! Между этими датами уместилась едва ли не вся моя жизнь, спрессованная, как тюк сена: распотроши - и годы рассыплются, разлетятся аж в далекое детство. Но все, что было до войны, - как бы пролог к моей жизни. То, что будет после войны, - это эпилог?
Погода держалась жаркая. Перепадали дожди, грозовые, грибные, неосвежающие. Солдаты бегали освежаться к мелкой, илистой речонке за городом, хотя был строжайший запрет: можно напороться на мины, были уже случаи. Но все бегали окунаться в коричневую, в кувшинках воду, лениво текущую среди низменных, топких берегов. Я не составлял исключения. Подговаривал Эрну, однако она стеснялась появляться со мной на людях: что скажут немцы, что скажут советские офицеры? А когда бывали с ней наедине, то никого и ничего не стеснялась, озадачивая и пугая меня.
В полях цвели колокольчики и ромашки, на диво крупные.
Я нарвал их, нарвал кувшинок, получился приличный букет. Принес Эрне. Она приняла его, прижала к груди.