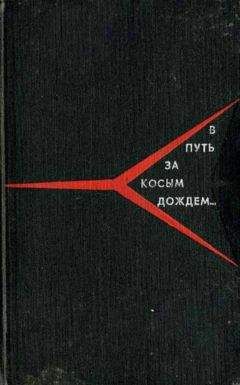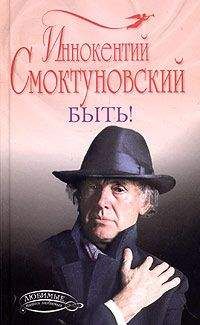Иннокентий Смоктуновский - Быть!
У нас, у актеров, существуют всякого рода поверья, и поверий этих, тайн – превеликое множество. У каждого актера они свои, так сказать – индивидуальные. Призваны же они для одного – помогать нам, оберегать нас от провала. Но есть и расхожие общие, и одна из таких общих тайн кроется в простой с виду фразе: «Роль слезу любит». О, значит это многое: не болтай о роли, а приготовь ее как следует, не жалея себя, как если бы роль эта была единственная и последняя возможность разговора о необходимом, о жизни. И – молчи. Молчи. Если уж невтерпеж и тебя распирает от желания поделиться, как это у тебя все здорово, талантливо получается, то – плачь, хнычь, но не смей похваляться и предвосхищать то, чем ты собираешься завоевывать и поражать зрителя, иначе – провал. Молчи, и только таким жестоким самоограничением сможешь уберечь грядущий успех…
«Звезды» уходили за дверь погасшими, молчаливо – я был поражен. Это был ритуал перед началом работы, требовавшей жертв, дани от своих жрецов. Пораженный, я уставился в дерматиновую пухлость двери, ревностно оградившую их от меня.
Войти вместе с ними я не смел, но побыть хоть где-то рядом было до взволнованности приятно и даже немножечко гордо – вроде я тоже из их среды и имею отношение к их судьбам, к их всегда праздничной, полной поэтической прелести, загадок работе и жизни.
Что происходило на репетиции, к каким пластам глубин человеческих добирались они там?
В стороне от той заветной двери у стены сиротливо стояла яркая двустворчатая заставка от какой-то декорации. Подумалось: а есть что-то общее со мной – тебя выставили, меня не впустили, и вот мы оба здесь: ты у стенки, я – тоже. Сперва неосознанно, спотыкаясь, я то и дело задерживался взглядом на ее намалеванной праздничной мозаике. Заставка служила, должно быть, входом во что-то – на лицевой ее створке был вырезан дверной проем, в который откровенно, не стесняясь своей наготы, глядела мешковина тыльной стороны другой смежной створки. Вокруг этого дверного проема надменно-иронической рукой бойкого художника была выведена вся прелесть летней сказки: какие-то фантастической величины и формы цветы, травки, лепестки, цветастые стрекозы и бабочки парили над праздничной свежестью цветов. И все это было сдобрено обилием щедрого солнца… А по еле угадываемой тропинке вглубь уходила девушка в светлом платье. Уходила быстро, едва касаясь ногами травы. В ее порыве уйти угадывалось, однако, желание оглянуться и, может быть, даже позвать с собой вдаль, и она уже повернула голову и приоткрыла рот… но ветка дерева досадно перекрывала собой ее глаза. Женщина вроде дразнила: «Ну что же ты, входи… ты так настойчив, – вот дверь, видишь?..» – и, не сказав самого важного, неудержимо удалялась, готовая в каждое последующее мгновение произнести окончательное «идем».
Передо мной две двери: настоящая, добротно утянутая, как молодой лейтенант, портупеей, крепкими, крест-накрест, узкими полосками дерматина, – не впустившая меня, и другая, впрочем, даже не дверь, а вырез, обнаживший серый холст мешковины, за которой была стена – тупик, но до чего огромный, щедрый мир сулил мне этот лишь кистью намалеванный вход в жизнь, он был открыт, звал и был прекрасен. Чудо.
Москва вместе с отверженностью подарила мне и друзей, которые верили в меня, несмотря на мое затянувшееся созревание. Проводив меня сегодня до самого здания театра, она сказала: «Все будет хорошо, вот увидишь». И сейчас, стоя перед этими дверьми, я вслух засмеялся – она уже говорила это месяцем раньше, но хорошего все не было.
Жила она в переулке «Посланников», у серой громады Елоховского собора. Время от времени я бывал у них, и всякий раз перед моим уходом она вместе с матерью приглашали заходить снова, не забывать, говоря, что дом всегда открыт и мне будут рады. Я каждый раз обещал появиться вновь тогда, когда уже чего-нибудь добьюсь, изменю этот нескладный, отбрасывающий меня в сторону ход событий. Но время шло, а перемен не было, и я вновь появлялся у них, снедаемый стыдом и тоской в желудке. И вот, размышляя, как-то я с неотвратимой ясностью увидел вдруг, что за все это долгое время я не только ничего не изменил к лучшему, но еще больше, глубже увяз в этом глухом непонимании, и что выхода, пожалуй, и нет. Эта простая мысль меня поразила. Может быть, я впервые увидел себя со стороны – и потом долго сидел терзаемый стыдом: как мог я обременять собой, своими неудачами добрых, милых людей, и я решил больше никогда не приходить к ним.
Да еще острым укором припомнился мой первый приезд в Москву, когда я ввалился к одним норильчанам, которых едва знал, но которые совсем не знали меня, если не считать того, что раза два видели меня на сцене Норильского театра. Три дня я пробыл у них и понял, что если тебе дают адрес и мило говорят, что-де, мол, будешь в Москве – заходи, то это еще совсем не значит, что ты так же мило можешь заходить. Тебя пригласили, с тобой были любезны, ну и будет. Тогда я ничего этого не понимал и пожаловал к ним с вещами. И впечатление, которое я на них произвел тогда, было куда более волнующим, я думаю, чем то, которое они испытывали, ранее глядя на меня из зрительного зала. Должно быть, творчески я уже здорово окреп и мог запросто потрясать обычным своим появлением в дверях.
Я уже полмесяца не был у них, не видел ее, и теперь она пришла навестить меня у наших общих друзей Марицы и Валентина Бегтиных-Ганцовских. Очень ясно, до четкости, вспомнилось выражение ее лица. Сама она, я думаю, не пришла бы, но по телефону Марица ей сказала, что я попал в беду… приходи, мол, проведай. «Да что случилось?» – мягко домогалась она. Марица, жена Валентина, приютившая меня в эти дни, хохоча в трубку, сказала:
– Ничего особенного, но это лучше видеть!
– Хорошо, я приеду.
Марица осторожно подносила трубку телефона к моему опухшему, ставшему разноцветным, бесформенному лицу – и я все слышал…
Накануне вечером мы с Валентином ехали в троллейбусе. Зная, что у меня был нелегкий день, он спросил меня, почему не сажусь. Я стоял около какого-то дремлющего парня в очках, у окна рядом с ним место было свободным. Нам скоро нужно было выходить, и я, совсем не желая обидеть или, боже упаси, оскорбить этого молодого человека, ответил Валентину, но, наверное, несколько громче, чем следовало: «Вот сейчас попрошу этого очкарика подвинуться и сяду. Подвиньтесь, пожалуйста. Пожалуйста», – повторил я, но молодой человек моих излияний вежливости не услышал или не оценил, зато слово «очкарик» в него запало, должно быть, глубоко. И, воодушевившись, он кликнул своих товарищей – их оказалось в троллейбусе человек шесть, они избили меня. Причем били долго, дружно, не стесняясь, все – в очках и без очков.