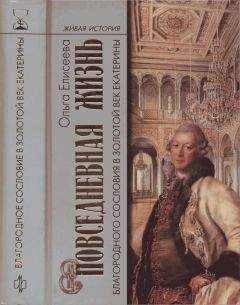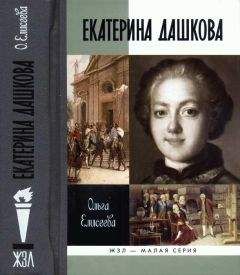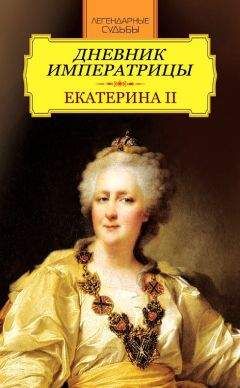Ольга Елисеева - Молодая Екатерина
Прикомандированный к Фикхен епископ Псковский Симон Тодорский — человек образованный, широкомыслящий, несколько лет учившийся в Германии — на фоне полкового пастора Вагнера выглядел настоящим ученым. Конечно, он постеснялся бы объяснить девочке, что такое обрезание, но мог доходчиво растолковать смысл слова «хаос». Более того, в горячих спорах с ученицей ограниченный Вагнер забыл, а может статься, и не знал богословского предания о сошествии Христа в ад. А вот Тодорский, задай ему принцесса вопрос о «добродетельных мужах древности», не преминул бы объяснить, что праведники, жившие до Откровения, были извлечены Спасителем из геенны огненной. Находились ли среди них Аристотель и Марк Аврелий — трудно сказать. Но, по крайней мере, такая трактовка Священной истории больше обнадеживала, чем неколебимое «нет» Вагнера. Недаром позднее в письмах к барону М. Гримму Екатерина называла пастора «дураком и педантом».
«Он не ослаблял моей веры, дополнял знание догматов»[69], — вспоминала императрица о Тодорском. Принято цосмеиваться над утверждениями юной Софии в письмах к отцу, будто между православием и лютеранством существуют, главным образом, внешние различия. Пышность богослужений, иконы, долгие посты — суть уступка Церкви, которая «видит себя вынужденной к тому грубостью народа». Что же касается догматики, то она близка. Однако Симон Тодорский, чье мнение повторяла девочка, должен был рассказать принцессе, что «Аугсбургское вероисповедание» лютеран объемнее, чем «Никео-Цареградский символ веры», и включает некоторые католические добавления[70]. Недаром сподвижник Мартина Лютера Филипп Меланхтон хлопотал о признании «Аугсбургского вероисповедения» Восточной церковью. В 1559 г. он послал его текст константинопольскому патриарху Иосафу И, отметив в сопроводительном письме, что «евангелики остались верны догматическим определениям соборов и учению отцов церкви и отреклись только от суеверия и невежества латинских монахов»[71]. Наставляя принцессу, псковский епископ не мог пройти мимо этого красноречивого эпизода. Конечно, из политических соображений Тодорский скрадывал различия. Но в целом никто никому не лгал, Фикхен просто излагали основы православного вероучения на понятном ей языке.
Интересно сравнить, как Екатерина сама описывала историю своего перехода в православие в разных редакциях мемуаров. Наиболее полно события изложены в «Записках», посвященных старой подруге П. А. Брюс. В них рассказ о наставлениях Симона Тодорского следует после описания тяжелой болезни. Эти события идут одно за другим, без всякой связи.
«На десятый день нашего приезда в Москву мы должны были пойти обедать к великому князю. Я оделась, и когда уже была готова, со мной сделался сильный озноб; я сказала об этом матери, которая совсем не любила нежностей, но… озноб так усилился, что она первая послала меня лечь. Я разделась, легла в постель, заснула и настолько потеряла сознание, что почти ничего не помню из происходившего в течение двадцати семи дней, пока продолжалась эта ужасная болезнь. Бургав, лейб-медик… признал плеврит; но он не мог убедить мать, чтобы она разрешила пустить мне кровь. И так я оставалась без всякой помощи, если не считать каких-то припарок, которые прикладывали мне на бок со вторника по субботу». То есть пока императрица Елизавета не вернулась из Троицы в Москву.
«Она… прошла прямо из кареты ко мне в комнаты в сопровождении графа Лестока, графа Разумовского и хирурга этого последнего, по имени Верр. Она села у моего изголовья и держала меня на руках, пока мне пускали кровь; я пришла немного в себя в эту минуту… но несколько минут спустя я снова впала в забытье… Мне пускали кровь шестнадцать раз, пока нарыв не лопнул. Наконец, накануне Вербного воскресенья, ночью я выплюнула нарыв».
После болезни София впервые появилась «на публике» 21 апреля, в день своего рождения. Ей минуло пятнадцать, и только после этого, как писала мемуаристка, «императрица и великий князь пожелали, чтобы меня посещал Симон Тодорский, епископ Псковский, и чтоб он беседовал со мной о догматах православной церкви. Великий князь сказал мне, что он убедит меня, да pi я с самого приезда в империю была глубоко убеждена, что венец небесный не может быть отделен от венца земного. Я слушала псковского епископа с покорностью и никогда ему не противоречила… и мое обращение не стоило ему ни малейшего труда»[72].
Перед нами гладкая, непротиворечивая картина. Екатерина даже упоминает о желании великого князя склонить ее к отказу от лютеранства. Эта важная деталь исчезнет из последующих редакций, где на первый план выступит собственное желание принцессы. Кроме того, в приведенной версии тяжелая болезнь Софии никак не связана с вопросом о вере. Позднее простуда, поставившая Фикхен на край могилы, станет своего рода этапом, важной ступенью в приобщении к русскому языку и православным традициям.
«Мне тогда уже дали троих учителей, — писала императрица в редакции 1790-х гг., — одного, Симеона Теодорского (Тодоровского), чтобы наставлять меня в православной вере; другого, Василия Ададурова, для русского языка, и Ландэ, балетмейстера для танцев. Чтобы сделать более быстрые успехи в русском языке, я вставала ночью с постели и, пока все спали, заучивала наизусть тетради, которые оставлял мне Ададуров; так как комната моя была теплая, и я вовсе не освоилась с климатом, то я не обувалась»[73].
Само желание Софии поскорее выучить язык не вызывает сомнений. Тогда же «Санкт-Петербургские Ведомости» писали: «Молодая принцесса показывает великую охоту к знанию русского языка и на изучение оного ежедневно по нескольку часов употреблять изволит»[74]. Настораживает другое несоответствие: в ранней редакции священник назначен к Екатерине уже после болезни. А в поздней — накануне, вместе с Ададуровым. Такое изменение «показаний» позволило ввести в мемуары целый эпизод с исповедью.
Принцессу лечили придворные медики Бургав, Санхец, Лесток и Верр. Они прописали частые и обильные кровопускания, в результате чего София до крайности обессилела. Эта болезнь могла стоить ей статуса невесты наследника, но не по годам расчетливая девочка сумела и из нее извлечь пользу. Когда положение было критическим, мать предложила позвать к больной лютеранского пастора. Однако Екатерина потребовала православного священника, что произвело на императрицу и придворных сильное впечатление.
«Поведение матери во время моей болезни повредило ей во мнении всех. Когда она увидела, что мне очень плохо, она захотела, чтобы ко мне пригласили лютеранского священника… Я ответила: „Зачем же? Пошлите лучше за Симеоном Теодорским, я охотно с ним поговорю“. Его привели ко мне, и он при всех так поговорил со мной, что все были довольны. Это очень подняло меня во мнении императрицы и всего двора»[75].