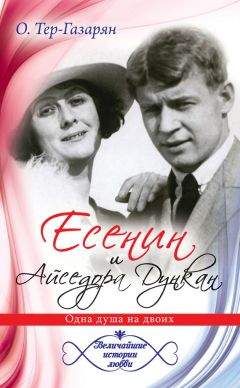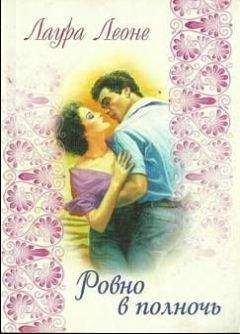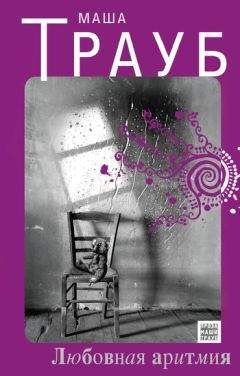Айседора Дункан - Моя жизнь. Встречи с Есениным
До тех пор я хранила фотографию и письма Ивана Мироцкого у себя под подушкой, но с этого дня, запечатав в пачку, спрятала их в свой чемодан.
Первый месяц аренды нашей студии в Челси истек. Стояла очень жаркая погода, и мы наняли меблированную студию, которая сдавалась внаем в Кенсингтоне. Тут у меня было пианино, был простор для работы. Но очень скоро, в конце июля, лондонский сезон закрылся, и мы остались с ничтожной суммой, отложенной за время сезона, и с перспективой безденежного августа впереди. Весь август мы провели в библиотеке, Кенсингтонском музее и Британском музее.
Наступил сентябрь. Элизабет, которая вела переписку с матерями наших бывших учеников в Нью-Йорке, получила от одной из них чек на обратный переезд и решила, что должна вернуться в Америку, дабы подработать немного денег.
— Если я заработаю, — сказала она, — я смогу посылать вам кое-что, а как только вы разбогатеете и прославитесь, я немедленно вернусь к вам.
Веселая и кроткая Элизабет уехала. Мы втроем провели в студии несколько дней в полном унынии.
Октябрь был холодным и угрюмым. Впервые мы испытали лондонский туман, а питание из дешевых похлебок, видимо, сделало нас малокровными. Даже Британский музей утратил свою прелесть. Бывали долгие дни, когда не хватало бодрости просто выйти из дому. Мы просиживали эти дни в студии, завернувшись в одеяла и играя в шашки кусками картона на самодельной шахматной доске.
Мы были в полном упадке духа. В иные дни утром не хватало мужества встать, и мы спали целый день.
Наконец от Элизабет прибыло письмо с приложением денежного перевода. Она прибыла в Нью-Йорк и остановилась в Букингемской гостинице на Пятой авеню, открыла школу, и дела ее шли отлично. Это нас приободрило. Срок аренды нашей студии истек, и мы наняли небольшой меблированный дом на Кенсингтонской площади.
Однажды вечером, когда стояла прекрасная погода и мы с Раймондом танцевали в саду, появилась чрезвычайно красивая женщина в большой черной шляпе и спросила:
— С какого места земли вы появились?
— Вовсе не с земли, — возразила я, — а с луны.
— Отлично, — сказала она, — с земли или с луны, вы мне очень нравитесь. Не хотите ли вы меня навестить?
Мы последовали за ней в ее красивый дом на Кенсингтонской площади, в котором чудесные портреты кисти Берн-Джонса, Россети[20] и Вильяма Морриса[21] запечатлели хозяйку дома.
Звали ее м-с Патрик Кемпбелл. Она села за фортепиано и начала играть и петь нам старинные английские песни, а затем прочла стихи. В заключение я станцевала перед ней. Она была величественно прекрасна, с роскошными черными волосами, огромными черными глазами, молочным цветом лица и шеей богини.
В нее невозможно было не влюбиться. Эта встреча явно избавила нас от мрачности и уныния, в которые мы впали; она знаменовала собой эпоху перемены в нашей судьбе, ибо м-с Патрик Кемпбелл выразила такое восхищение моими танцами, что дала мне рекомендательное письмо к м-с Джордж Виндгем. Она рассказала нам, что молодой девушкой дебютировала в доме м-с Виндгем в роли Джульетты. М-с Виндгем оказала мне восхитительный прием, и я впервые приняла участие в английском чаепитии днем перед горящим камином.
В доме царила атмосфера беззаботности и уюта, культуры и довольства. Я почувствовала себя здесь, как рыба, брошенная в воду. Прекрасная библиотека также очень меня прельщала.
М-с Виндгем устроила для меня в своей гостиной вечер танца, на котором присутствовал почти весь артистический и литературный Лондон. Здесь я встретила человека, оставившего значительный след в моей жизни. Ему было около пятидесяти лет. Я никогда не видела головы красивее, чем у него. Прекрасные глаза под выпуклым лбом, классический нос и изящный рот, высокая гибкая фигура с легкой сутуловатостью, седые волосы, разделенные пробором посередине и отброшенные за уши, замечательно приятное выражение лица. Таков был Чарлз Галле[22], сын знаменитого пианиста. Казалось странным, что из всех встреченных мною молодых людей, готовых охотно ухаживать за мной, ни один не привлек меня: я действительно даже не замечала их присутствия; и, однако же, с первого взгляда пылко привязалась к этому пятидесятилетнему мужчине.
Он был большим другом американской актрисы Мэри Андерсон в годы ее юности и пригласил меня на чашку чая в свою студию, где показал тунику, которую та носила в роли Виргилии в «Кориолане» и которую он бережно хранил. После первого посещения наша дружба стала очень тесной, и почти не было дня, когда бы я не приходила в его студию. Он много рассказывал мне о Берн-Джонсе, в свое время его задушевном друге, о Россети, Вильяме Моррисе и всей школе прерафаэлитов, об Уистлере и Теннисоне[23] — всех их он отлично знал. В его студии я проводила долгие часы, и отчасти дружбе этого артиста я обязана своим проникновением в искусство старых мастеров.
Чарлз Галле в это время был директором Новой галереи, где были представлены все современные художники. Это была небольшая галерея с центральной залой и фонтаном. Чарлзу Галле пришла мысль, чтобы я дала здесь вечер. Он познакомил меня со своими друзьями: сэром Вильямом Ригмондом, художником, м-ром Эндрью Лангом и сэром Губертом Парри, композитором, и каждый из них согласился выступить с объяснительным словом: сэр Вильям Ригмонд — об отношении танца к живописи, Эндрью Ланг — об отношении танца к греческим мифам, а сэр Губерт Парри — об отношении танца к музыке. Я танцевала в центральном зале возле фонтана, окруженная редкими растениями, цветами и пальмами. Мое исполнение пользовалось огромным успехом. Газеты с энтузиазмом писали об этом. Чарлз Галле пришел в восторг от моих достижений. Все известные в Лондоне лица приглашали меня на чашку чая или на обед, и на короткий промежуток времени судьба нам улыбнулась.
Однажды на многолюдном приеме в небольшом доме м-с Рональд я была представлена принцу Уэльскому, впоследствии королю Эдуарду. Он сказал, что я красавица кисти Гейнсборо, и это прозвище укрепилось за мной.
Наше положение улучшилось, и мы наняли большую студию на Варвикской площади, где я проводила свои дни.
В это время в мою жизнь вторгся один молодой поэт с нежным голосом и мечтательными глазами, только что окончивший Оксфордский университет. Он происходил из рода Стюартов, и его имя было Дуглас Эйнслай. Каждый вечер с наступлением сумерек он появлялся в студии с тремя или четырьмя томами под мышкой и декламировал мне стихи Суинберна, Китса[24], Броунинга[25], Россети и Оскара Уайльда[26]. Он любил читать вслух, а я обожала его слушать. Моя бедная мать, считавшая совершенно необходимым в таких случаях присутствовать с целью надзора, несмотря на то, что знала и любила эти стихи, не могла постигнуть оксфордской манеры их декламировать. Прослушав около часа, в особенности Вильяма Морриса, она обычно засыпала, и в эту минуту молодой поэт наклонялся и слегка целовал меня в щеку.