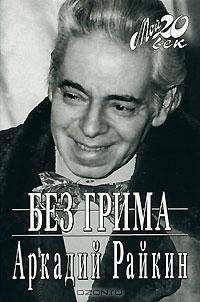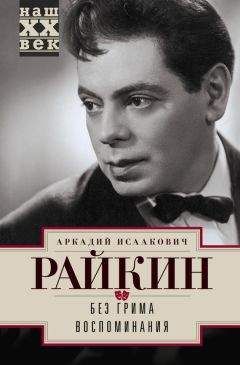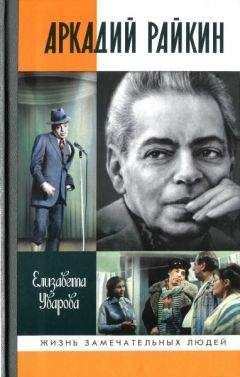Аркадий Райкин - Воспоминания
Этим своеобразным жанром журналистики, приносившим неплохой заработок и даже некоторую — сомнительную, впрочем, для серьезного художника — известность, деятельность Измайловича не исчерпывалась.
Окончив Академию художеств, он стал принимать активное участие в столичных выставках. В основном как портретист. Правда, успехи его были весьма скромны. Насколько я помню, он принципиально не примыкал ни к одной из многочисленных в ту пору художественных группировок, стремился к независимости, но независимости в его работах как раз и не ощущалось. Он писал добротно, не более того. На фоне выдающихся достижений русской живописи 1910—1920-х годов у него, пожалуй, не было шансов обратить на себя внимание.
Думаю, Измайлович это понимал. Думаю даже, это была драма его жизни. Драма недостаточной одаренности как живописца.
В таких случаях нередко начинает развиваться комплекс Сальери. Но он был бескорыстен в своей отзывчивости ко всему, что отмечено талантом. И, по моему твердому убеждению, вовсе не был бесталанным человеком. Прежде всего он был одарен как профессиональный знаток и ценитель изобразительного искусства.
Любопытно, что в своей живописи Измайлович придерживался достаточно консервативных, старомодных установок (ему как бы не хотелось расставаться с девятнадцатым веком), а вот на наших занятиях это не отражалось. Менее всего он был склонен рассматривать явления искусства в свете собственных страстей и пристрастий. В этом отношении его вкус, такт, чувство меры казались мне безупречными. Если же и можно было в чем- то упрекнуть его, так это, пожалуй, в некотором объективизме, в излишней нейтральности суждений. Он как бы самоустранялся, когда анализировал и оценивал, решающим для него оставался один и тот же критерий: входила ли такая-то задача в авторский замысел, добился ли художник того, чего хотел. Выражения «мне нравится» или «мне не нравится» в лексиконе Измайловича отсутствовали. И не потому, что он не имел своего мнения. Но потому, что его идеалом была точность. Точность без примеси вкусовщины...
Большой художник часто бывает несправедлив к своим собратьям по профессии. И в предшественниках, и в современниках он прежде всего ищет косвенного подтверждения своим собственным идеям. Его симпатии и антипатии тесно связаны с тем, что делает он сам. Измайлович же провозглашал идею мастерства, идею таланта, который в конечном счете возвышается над направлениями и тенденциями, над междоусобицей художественных группировок, над временем.
Он мог говорить о картинах Ван-Дейка или Вермеера так, словно они были написаны в наши дни. И, с другой стороны,— о картинах Пикассо или Филонова, как если бы они уже давно стали достоянием истории.
Такой педагог, как наш Владислав Матвеевич, был незаменим для того, чтобы мы могли научиться без предвзятости и, так сказать, с достаточного расстояния постигнуть природу разнообразных «измов» двадцатого века; не противопоставляя один «изм» другому, но ощущая их взаимообусловленность, их общую историко- культурную функцию.
На уроках Измайловича наступал час моего торжества. Здесь я мог дать фору любому. Вообще в школе меня считали заправским художником: поручали расписывать стены комсомольского бюро, оформлять выпуски стенгазеты. Я занимался этим с удовольствием, особенно увлекался шрифтами, и на районных и городских конкурсах школьных стенгазет не раз получал призы.
Владислав Матвеевич считал, что если я буду много работать над собой, то смогу поступать в Академию художеств. Одно время я всерьез готовился последовать его совету, несмотря на то, что моя любовь к театру определилась вполне. Сейчас даже странно подумать, как я мог колебаться. Но тогда во мне происходила нешуточная борьба. В конце концов перевесил театральный институт, но, прежде чем принять окончательное решение, я счел своим долгом посоветоваться с Владиславом Матвеевичем. Он был в курсе моих увлечений, относился к ним сочувственно, хотя в то же время, как мне казалось, и ревностно. Я шел к нему, боясь, что он не одобрит мой выбор, сочтет его легкомысленным
Но он сказал, что никто, кроме меня самого, не может, сделать этот выбор.
— Ты должен поступить так, как чувствуешь сам. Ничьи советы здесь тебе не помогут. Но учти: за двумя зайцами погонишься — ни одного не поймаешь.
Поддерживая с Владиславом Матвеевичем добрые отношения и после окончания школы, я захаживал к нему в Дом ученых, где он вел любительскую изостудию, пока не началась война. (Кстати, блокаду от первого и до последнего дня он пережил в Ленинграде.) Всякий раз я находил его приветливым и внутренне спокойным, как может быть спокоен лишь тот, кто занимается своим делом и этим удовлетворен вполне.
Но в то же время он напоминал мне этакого алхимика, сосредоточенного на чем-то таком, что недоступно пониманию непосвященных и даже как бы не нуждается в понимании.
Нет, я не могу сказать, что он был не от мира сего. Он выказывал живой интерес к моим театральным делам, да и вообще к театру. Обо всем судил здраво, и я не замечал в нем затаенной подавленности или желчности. В сущности, он не менялся, хотя годы, как говорится, брали свое. Он искренне радовался встречам со мной. Прежде всего — возможности продемонстрировать работу какого- нибудь своего ученика. И когда я говорил, что эта работа и мне кажется удачной (хотя, часто бывало, не видел в ней ничего особенного), он радовался еще больше:
— Вот увидишь, из этого мальчика обязательно выйдет толк!
Он все так же любил искусство. И ничего не требовал взамен.
Я — тоже любил. Но по-другому.
Выходя от него на улицу, я обычно испытывал облегчение. Хотя еще час назад спешил в Дом ученых на всех парах. За те несколько месяцев, что я не видел его и даже о нем не вспоминал, я успевал незаметно соскучиться. Тем не менее, в очередной раз прощаясь с ним и обещая, что теперь-то уж не буду пропадать надолго, что на будущей неделе загляну непременно опять, я сам себе не верил, да и он, вероятно, не верил мне. Уходя от него, я всегда с некоторой грустью думал, что Владислав Матвеевич не очень удачлив и заслуживает большего, нежели добился.
Откуда такие мысли? Разве этого мало — прожить жизнь, пусть небурную, негромкую, но достойную, долгую, целиком отданную искусству, благодарным ученикам?!
Наверное, я чувствовал в нем недовоплощенность. Наверное, и впрямь ему не хватало простора, чтобы раскрыться, развернуться прежде всего как деятелю, а не только как педагогу. А может быть, корень вопроса вовсе не в нем, а во мне. Мне, особенно в молодости, трудно было понять людей, не склонных добиваться внешнего успеха.