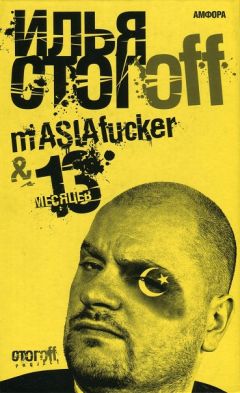Алла Андреева - Плаванье к Небесной России
Был чудесный зимний праздник. Рождество. Конечно, в России были семьи, и немало, которые праздновали его во всей полноте и величии, как Рождество Христово. У нас этого не было, не было и у тех, кого я знала. Даже и название-то — не Рождество Христово, а просто Рождество — говорит само за себя. Но и та теплая семейная традиция все равно была прекрасна. Елку покупали очень большую, пышную, и, конечно, не на Новый год, а в Сочельник. Новый же год был совсем другим, светским и внешним праздником, лишенным всякой таинственности, которая Рождество все же окружала. Вечером в Сочельник нас с братом закрывали во второй комнате, а в большой, где рояль, папа и мама устанавливали елку ростом до потолка и наряжали ее игрушками, яблоками, мандаринами, конфетами, шарами и свечами — живыми свечами, а не мертвой гирляндой из лампочек. Под елку клали подарки, папа садился за рояль и играл «Гусиный марш». Дверь в комнату открывали, мы вбегали, замирали от восторга перед красотой елки, потом лезли под нее вытаскивать подарки. Вероятно, там были разные вещи, но, главное, навсегда запомнились книги. Помню, как маленькому брату, увлекавшемуся географией и удивительно для малыша много знавшему, подарили глобус. Юрка, ошеломленный радостью, стоял с ним в руках и долго молчал, не в силах не только произнести хоть слово, но даже улыбнуться.
Как хорошо было спать в рождественской ночи в большой комнате втроем: рояль, душистая елка и я на диване. А потом еще кот, игравший лапочками со всем, что откуда-нибудь свисало. Потом было хождение в гости к другим детям. Вероятно, родители заранее обо всем договаривались. В одной профессорской семье каждое Рождество устраивали детский маскарад. У них была величайшая редкость по тем временам: большая отдельная квартира. Детей собиралось много, и бежали мы цепочкой под папин «Гусиный марш» уже по всей квартире и коридорам. На одном из таких маскарадов я танцевала с высоким мальчиком в костюме Пьеро. Он был родственником Станиславского, свой лагерный путь начал в 22 года на Беломорканале, а умер в Воркуте, оставшись там после освобождения. Я встретилась с ним, приехав уже в вольную Воркуту к своим друзьям, тоже оставшимся там после освобождения. Под завывание полярной вьюги вспоминали далекий детский маскарад в Москве.
Раза три в год мы, дети, попадали в театр, остальное время между спектаклями переживали увиденное или повторяли представления, как умели. В Художественном театре, как все московские дети, я смотрела «Синюю птицу». И вот опять особенность детского восприятия: лет через десять после увиденного спектакля я читала Метерлинка. Читала и «Синюю птицу». Очень хороший писатель, написал очень хорошую пьесу. Только это было совсем не то, что я видела в театре маленькой. Там не было ни автора, ни пьесы; и режиссеров не было, и никакие актеры никого не играли. Была самая настоящая правдивая история, более реальная и правдивая, чем сама жизнь. Ведь она была красивее и серьезнее этой окружающей жизни.
Вахтанговскую «Принцессу Турандот» я видела несколько раз и помню очень хорошо. Это был дивный спектакль, совсем не та гальванизация, которую можно видеть сегодня. Всегда трудно искать слова для рассказа о спектакле, а еще трудней, если хочешь объяснить отличие одного спектакля от другого, да еще если этот другой — повторение первого. Тот первый, вахтанговский, был, конечно, ювелирно сделан, но казалось, что никто ничего не придумывал, а просто каждый вечер на сцене весело валяют дурака, привязывая белые салфетки и полотенца вместо бород, как будто только что это придумали, и, двигаясь под музыку так, точно это и есть естественное движение. Прелестная Мансурова в совсем европейском бальном платье (китайская принцесса) с полумаской на лице, потому что ее красоты нельзя выдержать, несмотря на все «Мудрые» загадки, была очаровательно глупенькой, от чего все получалось еще смешнее. Калаф-Куза, восточный принц, у которого восточного было только тюрбан на голове, во всем остальном это был блистательный европейский фрачный герой-любовник, элегантный до совершенства. И во всем легком веселом представлении Орочко, игравшая Адельму, — настоящая трагическая актриса. Это несоответствие стилей было подчеркнутым, преувеличенным, что еще добавляло веселья. Веселая доброта оказалась основным звучанием спектакля. Публика в зале чувствовала себя полностью втянутой в то, что происходит на сцене, чему много способствовали четыре маски. Только они с самого начала выходили загримированными и одетыми в яркие театральные костюмы. Шутки их казались по тем временам очень актуальными. Удивительно, что уже надвигалась тьма, а люди от души смеялись над этими злободневными остротами. Например, четыре маски всякими ухищрениями стараются вызнать настоящее имя Калафа и приходят к нему с анкетой, а это — время первых советских анкет, но тогда еще никто не догадывался, как они будут страшны. Один из вопросов анкеты стал притчей во языцех, его повторяла вся Москва, по-моему, несколько лет: «Была ли у вас бабушка и, если нет, почему?». Зал смеялся, смеялась Москва, а через двадцать лет сколько ночных лефортовских допросов было потрачено на выяснение моих предков со стороны отца — датчан. Их фамилия была фон Дитмар. И один из генералов Гитлера носил эту фамилию. Для меня это стало лишь небольшим осложнением в следствии, а сколько людей в связи с такими вопросами и такими фамилиями погибло в советских лагерях!
«Турандот» стала знаменитым спектаклем, ее видели многие. А вот один концерт мне хочется описать, вряд ли кто-нибудь еще это сделает. Малый зал консерватории, и я, девочка, на концерте одна. На сцену выходит немолодая некрасивая плотная женщина. Это цыганка, по-моему, ее имя Мария Христофорова. Она одета в длинную одежду, темно-серую, никакой «цыганской» пестроты нет. На плечах — шаль, причем совсем не яркая. Грима нет, его в то время и на других певицах не было, во всяком случае, казалось, что не было. Она садится на стул лицом к зрителям, положив руки на колени. Поет сидя, очень спокойно сидит, без всяких жестов, без всякой аффектации. А вот аккомпаниатор с гитарой стоит на шаг позади нее, за ее плечом, склонившись в почтительном полупоклоне. Он тоже не молод, одет в темное, тоже без всяких эффектов. У него прекрасные полуседые, крупными волнами лежащие волосы. Очень плохо, что не помню, как его звали, ну не помню. Он отдан ей, ее пению, почтительно отдан. Она не обращает на него никакого внимания, только поет очень низким, очень красивым голосом. И пение тоже без эффектов, ни придыхания, ни длиннющих фермат, все в звуке голоса и в том, что не поддается словам, в огромном, все возрастающем, иногда почти пугающем темпераменте, не рвущемся истерически, а льющемся из бездонной глубины души.