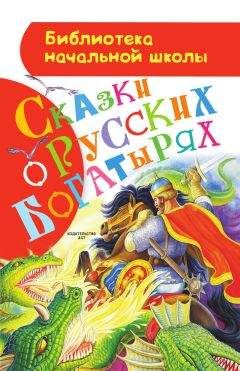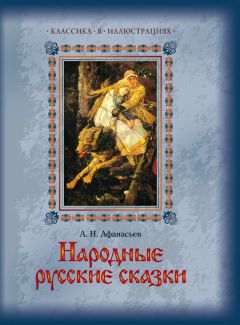Василий Осокин - В. Васнецов
Сближала Репина с Васнецовым, как это часто бывает, и разница характеров, и различная манера и привычка работать. Свои планы Репин не имел обыкновения скрывать, часто писал и переписывал полотна в присутствии товарищей.
Васнецов работал по-другому. Он никому не показывал своих произведений до полного их завершения. Разве только Репину покажет, да и то после того, как тот пристанет. Но и тогда наперед заявит:
— Не хотел я тебе свою безделку показывать, да разве от тебя отвяжешься…
Среди друзей Репина Васнецов обратил внимание на необычайно талантливого юношу — художника Федора Васильева, любимца Крамского. Васильев расположил к себе Виктора далеко не сразу и даже оттолкнул его вначале своей фатоватостью. Но вскоре выяснилось, что на самом деле он из очень бедной чиновничьей среды, а это щегольство чисто внешнее. Зато его пейзажи сердечно тронули глубиной чувства, удивили композиционной стройностью.
Как-то Васнецов с Репиным зашли к своему академическому товарищу, скульптору Антокольскому. Маленькая, низенькая, с двумя окошками комнатка на этот раз была вовсе освобождена от мебели: ожидались гости.
Воспитанники академии Ковалевский и Семирадский уже были тут.
Вскоре заявился высокий, несколько мешковатый, громкоголосый человек с большой бородой, чем-то напоминавший Васнецову колдуна-кудесника. Он энергично потряс Виктору руку, оглядел художника с ног до головы и, усевшись, даже, как показалось Васнецову, поощрительно подмигнул ему.
Воцарилось неловкое молчание. Кто-то из вежливости спросил пышущего здоровьем Стасова о его самочувствии. Вопрос этот показался Васнецову смешным.
— Да что мне, матерому волчище, сделается? — загрохотал Стасов. — Лучше вы, голуби, поведайте, как поживаете, что работаете.
Никто не отвечал. Вдруг Стасов вскочил, с треском отодвинул стул и в два прыжка подбежал к окну.
— У вас вон какая штука, а вы молчите…
На окне стоял скульптурный эскиз из зеленой глины, хорошо известный всем, кроме Стасова. Это был этюд скатерти к скульптурной композиции Антокольского «Инквизиция», над которой он тогда работал.
Скульптор лепил скомканную скатерть с падающей посудой прямо с натуры. Композиция же в целом изображала людей, вскочивших в панике при виде инквизиторов.
Восхищенный Стасов жарко заговорил о необходимости для художника хорошо изучать и изображать самые обыкновенные, как эта скатерть, бытовые вещи, окружающие человека в его повседневной жизни.
Поднялся Семирадский. В очень корректной форме, высказывая внешне большое уважение Стасову, он принялся доказывать, что главная задача художника — не изображение реальной жизни, а якобы воспевание «дивного» античного периода человечества, прославление Эллады, древнего мира.
Завязался спор, о котором Стасов впоследствии писал:
«Он (Семирадский) стоял за искусство идеальное, я — за реальное, и главным предметом спора сделалось голландское искусство с его маленькими сценками из ежедневной, действительной, маловеличественной, но глубоко правдивой жизни голландского крестьянства и мещанства XVII века в деревне и городе».
Маститый Стасов говорил горячо и образно; речь Семирадского текла плавно и спокойно. Красочность, выразительность языка Стасова, его убежденность в своей правоте и весь его незабываемый, резко характерный облик произвели на Васнецова сильное впечатление. С тех пор он стал читать все статьи Стасова об искусстве.
В 1870 году в Петербург из Рима вернулся пансионер академии художеств Павел Петрович Чистяков. Еще до своего отъезда за границу, будучи воспитанником академии и нуждаясь в заработке, он преподавал в «Школе на Бирже».
Чистяков оставил по себе добрую память у учеников школы, да и в академии проявил себя одаренным художником. Ценители искусства им интересовались и переписывались с ним. По приезде в Петербург Чистяков направился в академию. В одной из комнат дирекции были вывешены «программы» воспитанников — эскизы их будущих академических работ. Чистяков начал жадно их просматривать: он хорошо знал, что в «программе» живо сказывается художественный почерк, техническое уменье воспитанника. А Чистяков ничем так не интересовался, как состоянием художественной школы в России и ее ближайшим будущим.
— Здорово!.. Здорово!.. — восторженно приговаривал этот темпераментный человек, останавливаясь то у одного, то у другого эскиза. — Нет, положительно здорово, сколько жизни и наблюдательности! В мое время так не делали… Молодчага этот Крамской, что взбудоражил всех и вся! Не ожидал!…
Особенно долго стоял Чистяков у одной работы.
— Это был, — вспоминал Стасов, — большой рисунок карандашом, что-то совершенно особенное и самостоятельное, а главное — национальное, совершенно не похожее на обыкновенные академические программы. Спрашивает: чья эта работа? Говорят: Васнецова. Он еще такой фамилии не слыхал. Это был кто-то совсем новый для него… И князь с благодушным лицом и осанистой фигурой, стоящий, опершись на палку, в широкой шубе, с тяжелым крестом на груди и с изящной шапочкой на голове; и два боярина по сторонам: один из них важный и величавый, другой — тонкий, хитряк и лисица… Все трое стоят они перед громадной иконой, более чем в рост человеческий, написанною на доске ладони в две толщиной; и другие бояре, рассматривающие другие иконы в углу; и мальчишка-ученичок, из страха перед князем залезший на верх лестницы под самый потолок; и монахи, и попы, и отроки-иконописцы — все это чрезвычайно исторично, национально и верно[4]. Все это не могло не остановить на себе внимания такого тонкого знатока и ценителя, как П. П. Чистяков.
А далее произошло вот что.
Чистяков попросил профессоров познакомить его с автором рисунка — Васнецовым.
Тот был вызван и удивился, когда к нему подошел незнакомый среднего роста человек с круглой головой, маловыразительным лицом, но большим выпуклым лбом. Незнакомец представился:
— Чистяков.
О Чистякове Васнецов много слыхал еще в школе. Поговаривали о нем последнее время и в академии: он открыл там небольшую выставку своих итальянских работ.
— Вот вы какой, оказывается, — говорил Чистяков, с любопытством окидывая высокую и худощавую фигуру Васнецова. — По виду настоящий, коренной русак. Наверно, с севера. Ну, угадал я?
— Вятский.
— Это хорошо, что вятский. Иван Иванович Шишкин тоже вятский и вон как пишет. Только он экий крепыш, словно бы корнями врос в русскую землю, как дуб на его картине. Да и пишет же он эти дубы, ели да сосны так крепко — дух захватывает… Помните, у Алексея Толстого: