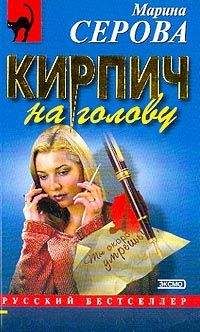Лидия Иванова - Воспоминания. Книга об отце
Осень. На фронте идет война. В городе возобновляется культурная жизнь. В академических кругах огромный скандал: Владимир Эрн напечатал статью «От Канта к Круппу», где доказывает, что диалектическое развитие философии Канта неизбежно приводит к войне. Возмущение в университете неописуемое. Вся карьера Эрна была испорчена и ему грозил остракизм. Он смело продолжал стоять на своем[42].
Приблизительно в это время начинается знакомство и дружба Вячеслава со Скрябиным.
Мы оба с отцом любили Бетховена и Шуберта, любили классиков, а к новой музыке относились недружелюбно, как относятся к подозрительным иноземцам. Скрябин это почувствовал и, т. к. очень полюбил Вячеслава, захотел непременно его ввести в свой мир. Один раз вечером он к нам пришел, сел за наш старый рояль и долго нам играл отрывки из своей поэмы «Прометей», повторял их, объяснял. Мы были только втроем: Скрябин, Вячеслав и я. Когда Скрябин ушел, Вячеслав обратился ко мне и говорит:
— Ну, что же?
Я сознаюсь:
— Хорошо.
— Не правда ли?
Мы оба были смущены, а у Вячеслава было такое выражение лица, как будто ему дали отведать от запретного плода познания добра и зла.
Мы со Скрябиным часто видались и подружились также с его женой, Татьяной Федоровной Шлецер. Они жили где‑то у Арбата.
У них было трое маленьких детей: две девочки, Ариадна и Марина, и гениальный мальчик Юлиан, который впоследствии утонул[43].
На первый взгляд Скрябин со своими закрученными усами и аккуратной бородкой мог показаться элегантным, поверхностным и банальным посетителем светских салонов. Но когда он начинал говорить о своих идеях и замыслах, его глаза зажигались, он весь светился и казался легким — легким, точно возьмет, да и взлетит (что, кстати, соответствует характеру его музыки).
Вячеслав очень тесно сблизился со Скрябиным, который сообщал ему все свои замыслы, или, вернее, посвящал его в один свой великий замысел. Он считал, что его миссия — написать музыку для «Мистерии»: окончательной мистерии. Она будет исполнена всего лишь один раз, и после этого окончится Эон, в котором мы живем — этот мир кончится. Скрябин подготовлялся к этой миссии. Пока что нужно было написать «предварительное действие», которое он уже конкретно начинал осуществлять.
Он так верил во все это, что мы за него сильно опасались: что будет, когда он напишет эту музыку и дело дойдет до ее исполнения. Казалось, что Судьба решила за него и как бы пресекла его дерзновение. Было что‑то жуткое в его совсем неожиданной смерти, после немногих дней болезни, от случайного заражения крови. Он умер весною 1915 года. Ясное солнечное утро. Торжественная церковная похоронная процессия медленно двигалась, сопровождаемая толпой народа, от его дома до кладбища Новодевичьего монастыря.
Развертывалась дружбы нашей завязь
Из семени, давно живого в недрах,
Когда рукой Садовника внезапно
Был сорван нежный цвет и пересажен
(Так сердцем сокрушенным уповаю)
На лучшую иного мира пажить:
Двухлетний срок нам был судьбою дан.
Я заходил к нему — «на огонек»;
Он посещал мой дом. Ждала поэта
За новый гимн высокая награда, —
И помнит мой семейственный клавир
Его перстов волшебные касанья.
Он за руку вводил по ступеням,
Как неофита жрец, меня в свой мир,
Разоблачая вечные святыни
Творимых им, животворящих слав.
Настойчиво, смиренно, терпеливо
Воспитывал пришельца посвятитель
В уставе тайно действенных гармоний,
В согласьи стройном новозданных сфер.
А после, в долгой за полночь беседе
В своей рабочей храмине, под пальмой,
У верного стола, с китайцем кротким
Из мрамора восточного, — где новый
Свершался брак поэзии с музыкой, —
О таинствах вещал он с дерзновеньем,
Как въяве видящий, что я провидел
Издавна, как сквозь тусклое стекло.
И, что мы оба видели, казалось
Свидетельством твоим утверждено;
И, в чем мы прекословили друг другу,
О том при встрече, верю, согласимся.
Но мнилось, — все меж нас — едва начало
Того, что вскоре станет совершенством.
Иначе Бог судил, — и не свершилось
Мной чаемое чудо — в час, когда
Последняя его умолкла ласка
И он забылся; я ж поцеловал
Священную хладеющую руку —
И вышел в ночь…[44]
Большим событием этого времени было появление в печати монументального труда Флоренского — Столп и утверждение истины [45]. О нем много говорилось во всей культурной Москве. Вячеслав с Флоренским был связан старой дружбой — еще со времени, когда тот заходил на Башню, будучи молоденьким студентом — математиком. В Москве они конечно видались, но не часто, т. к. Флоренский жил в Троице — Сергиевске. На меня книга Флоренского произвела огромное впечатление — даже повлияла на мою внутреннюю жизнь. Мне было очень трудно понимать ее, но все же я одолела весь том. Флоренского лично я помню, когда мы на святках поехали с Верой говеть и остановились на несколько дней в одном из скитов посада. 23–го декабря мы, возвращаясь домой, зашли к Флоренскому. Было туманно, тепло и сыро. Домик вроде избы, вокруг садик с густыми кустарниками. Сам Флоренский в рясе, небольшой, очень худой, с бородкой, с длинными, как полагается, волосами, имел вид благообразный, тихий, напряженный, ласковый. Дом внутри бедный и очень чистый, о чем заботилась скромная, смиренная молодая жена. Вокруг много маленьких детей. На столе было блюдо из какого‑то зерна, крупного, белого (ячмень?), сваренного с медом. Флоренский угощал и объяснил, что это по старинным обычаям полагается есть накануне сочельника. Мы долго сидели, говорила Вера, я дичилась, но жадно слушала каждое слово. Флоренский нам рассказывал, как он хотел быть монахом; как старец, его духовник, ему этого не позволил, а велел сделаться «белым священником» и жениться; как он встретил на мосту, по предсказанию духовника, свою суженую[46]. Когда мы уходили, ему попались, не знаю как, рисунки, которые я набросала на полях какого‑то листа бумаги. Он взглянул и попросил их ему дать: что‑то в них его заинтересовало.
Он провожал нас. Мы шли по каким‑то дорогам, сырым и узким. Переходя через речку или канаву по деревянному мостику, я заметила на земле булавку и наклонилась, чтобы ее поднять.
— Оставьте ее, — сказал Флоренский, — вещи с остриями опасны. Они могут быть заколдованы.