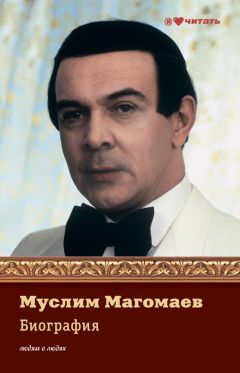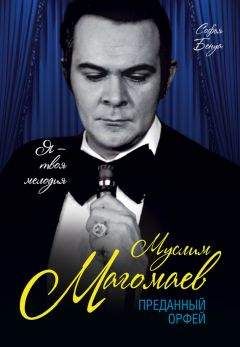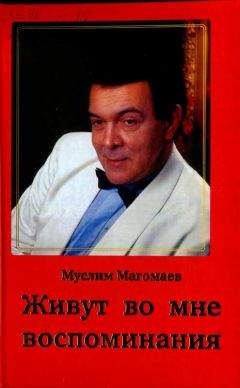Игорь Князький - Калигула
Перемена в настроении легионеров была разительной. Теперь они сами уговаривают Германика покарать виновных в мятеже и простить заблуждавшихся, к коим, разумеется, недавние мятежники себя в подавляющем большинстве и причисляли. Настойчиво звучала просьба о возвращении в лагерь Агриппины и любимца воинов маленького Калигулы, которого они называли «своим питомцем». Германик на это здраво ответил, что сына вернет, но жена возвратиться не может, поскольку у нее приближаются роды, да и зима с ее холодами не за горами. Но главное… с виновниками происшедшего воины могут поступать по своему усмотрению… Командующий 1-м легионом Гай Цетроний своим присутствием придавал происходящему видимость законности, сам же Германик держался в стороне, как бы вообще не участвуя в суде и расправе.
Связанных зачинщиков по одному выводили на помост, и воинский трибун указывал на него выстроившимся с мечами наголо легионерам. Если из строя доносился общий крик, что данный человек виновен, то его, столкнув с помоста, тут же и приканчивали. Если же строй молчал, то, надо полагать, несчастного миловали. Правда, таких случаев было совсем немного. Безжалостно истребляя и подлинных зачинщиков мятежа, и тех, кто просто попал под горячую руку, недавние «бунтовщики по недомыслию», каковыми они сами себя объявили, как бы очищались от совершенных преступлений. Германика такой поворот дела устраивал, ибо вся вина за пролитую кровь ложилась на самих легионеров, а он добился главного: мятеж прекращен, корни его вырваны, поскольку зачинщики наипримернейшим образом наказаны.
В этом Германик за полтора века предвосхитил великого римского императора Марка Аврелия, о котором его биограф писал, что он никогда не приказывал убивать своих врагов, но никогда не мешал тому, чтобы их убивали. Так, он допустил, чтобы убили его злейшего врага мятежного Авидия Кассия, но никакого приказа об этом не отдавал…{49}
1-й и 20-й легионы были усмирены, но оставались еще 5-й и 21-й легионы. Те самые легионы, которые и начали мятеж и в которых пролили более всего крови. Стало известно, что весть о наказании мятежников в верхнегерманском войске не произвела на них первого должного впечатления. Потому Германику пришлось готовить свои легионы, а также силы флота и союзные войска к походу на Нижний Рейн, дабы решительными боевыми действиями покончить с нежелающими смириться. Оценив, однако, все «за» и «против» такого развития событий, Германик решил все же избежать крайних мер. Прямое боевое столкновение двух римских армий — такого уже не было сорок пять лет — со времени последнего противостояния Октавиана и Антония… Это гражданская война, а не подавление бунта. Кроме того, во что может такое столкновение двух римских войск вообще обойтись Римской державе? Ведь Рейн — ее опаснейшая граница, и стоит только римской власти ослабнуть на его берегах — а битва Верхнего и Нижнего войск непременно к этому приведет, — как из Германии в римскую Галлию устремятся полчища воинственных варваров. Не следует, кстати, и переоценивать лояльность покоренных галльских племен… Поэтому Германик, изготовив свои войска к походу и готовый обрушить возмездие на головы не желающих смириться бунтовщиков, предпочел все же использовать уже испытанный способ подавления мятежа руками самих недавних мятежников: пусть «заблудшие» сами истребят непримиримых «зачинщиков». Но на сей раз он действовал не уговорами, не обращением к историческим примерам, а совершенно недвусмысленными угрозами. Легату Авлу Цецине он отправил письмо, извещавшее, что он выступает на Нижний Рейн с большим войском и если до его прибытия расправа с главарями мятежа не состоится, то он будет казнить мятежников поголовно. Цецина опирался на достаточное число благонамеренных воинов и сумел это обстоятельство успешно использовать, поскольку письмо Германика времени для размышления не оставляло.
Собрав ночью в своей палатке наиболее благонадежных воинов, носивших значки легионов и изображения орлов, Цецина досконально выяснил настроения в легионах и убедился, что большинство все же готово подчиниться воинскому долгу. Было назначено время нападения на самых непримиримых мятежников. Цецина действительно сумел собрать надежных людей — никто мятежников о грозящей им опасности не предупредил. По условленному знаку люди легата ворвались в палатки бунтовщиков и на месте прикончили их. Ужасно было то, что никому в лагере не объясняли, почему, собственно, началась эта резня, быстро охватившая весь лагерь.
«Тут не было ничего похожего на какое бы то ни было междоусобное столкновение изо всех случавшихся когда-либо прежде. Не на поле боя, не из враждебных лагерей, но в тех же палатках, где днем они вместе ели, а по ночам вместе спали, разделяются воины на два стана, обращают друг против друга оружие! Крики, раны, кровь повсюду, но причина происходящего остается скрытой: всем вершил случай. Были убиты и некоторые благонамеренные, так как мятежники, уразумев, наконец, над кем творится расправа, также взялись за оружие. И не явились сюда ни легат, ни трибун, чтобы унять сражавшихся: толпе было дозволено предаваться мщению, пока она не пресытится. Вскоре в лагерь прибыл Германик; обливаясь слезами, он сказал, что происшедшее — не целительное средство, а бедствие, и повелел сжечь трупы убитых»{50}.
Авл Цецина верно рассчитал, что если обезглавить мятеж, уничтожив в первую очередь его явных предводителей, то в неизбежной резне, пусть и с немалыми потерями, успех будет на стороне благонамеренных. Германику же, вновь стоявшему в стороне от кровопролития, каковое он приказом своим не развязывал, оставалось только пролить приличествующие моменту слезы и поскорбеть о случившемся. Главное же было достигнуто — мятеж в рейнских легионах прекратился. И прекратил его сам Германик, не запрашивая помощи из Рима, где новоявленный принцепс пребывал в тяжком раздумье, получая невеселые известия сначала из Паннонии, а затем и с берегов Рейна.
В Риме известия о мятежах вызвали немалую тревогу и римляне недоумевали, почему медлит Тиберий, почему он остается в Риме при таких страшных известиях. Кому же, как не ему, ныне уже во всем блеске императорского величия самолично подавить возмущение? Справятся ли с этим нелегким делом его сыновья, как родной, так и приемный?
Тиберий, однако, не спешил покидать столицу, и на это у него были свои резоны. Ведь мятежи, к несчастью, вспыхнули в двух областях почти единовременно. Да и области эти лежат в разных направлениях от Италии. Потому, отправившись усмирять бунт в Паннонии, принцепс мог невольно способствовать усилению мятежа на германской границе, и наоборот… Далее: если неудачу потерпит Друз или Германик, то еще не все потеряно, тогда он сам бросит решительный вызов взбунтовавшимся злодеям. Но неудача самого императора — это уже беда, грозящая благополучию самой Римской державы, судьбе ее высшей власти. Наконец, надо помнить, что в Италии стоят только преторианские когорты, императорская гвардия, опираясь на которую, мятеж боевых легионов не подавишь, а времени на набор нового войска просто нет. Думается, оставаясь в Риме, Тиберий поступил совершенно правильно и упрека за это ни в коей мере не заслуживал. Он умел выжидать, умел просчитывать грядущий ход событий, и его ожидания оправдались. Да, чтобы успокоить излишне разволновавшихся обитателей столицы, он сообщил, что уже избрал себе спутников для похода, были оснащены корабли, даже подготовлены обозы… но сигнал к походу так и не прозвучал. То государственные дела вынуждают принцепса оставаться в Риме, то приближение зимы совершенно не способствует выступлению… Наконец, правильность действий Тиберия (или бездействия) подтвердилась известиями о прекращении сначала паннонского, а затем и рейнского мятежа.