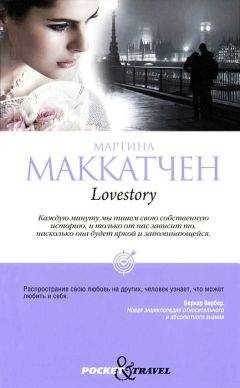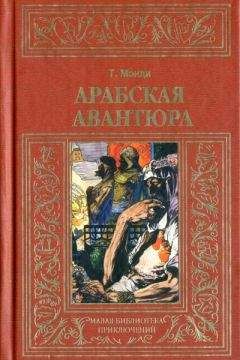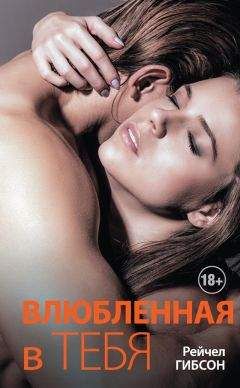Валерий Золотухин - Знаю только я
Ну вот и поразвратничал: — и свечку пожег, и сигарой попыхтел, и погрустил, и вспомнил кой-кого, в общем, дух перевел, аж башка затрещала.
Зайчик меня успокаивает: «Все гениально, все очень хорошо, не унывай, Зайчик». Я и не унываю, я знаю, что все получится.
А что, если в можаевской палке удача зарыта? Сейчас обрежу ее, окрещу и буду таскать с собой повсюду, пусть помогает, нечего ей без дела в углу стоять.
Ну ладно, поскакал в театр, на «очень ответственный спектакль».
3 марта
Прочитал половину книги Солженицына «Раковый корпус» (вторую пока не достал) и задумался. Здорово написано и о том, что надо сейчас, как говорится, в точку попал. Удивительная свобода, он абсолютно не стеснен собственной цензурой, т. е. какими-то личными надсмотрщиками, которых нам насаживали внутрь с детства… И она не лает, не критикует, не осуждает, не бунтует, не призывает, вообще ничего не навязывает; он пишет, пишет — видит, рассказывает…
Я не говорю о языке, совершенно поразительном: сегодняшнем, остром, неожиданном и вместе с тем удивительно русском, российском, национальном. Нет изощренности, подделки под русскую, простонародную речь — нет, это отличный русский язык, но литературный, каким может и имеет право писать только Солженицын, вернее, имеют право все — но никто не сможет, потому что язык — это не правила арифметики, которые каждый может применять по своему желанию, каждый может пользоваться. Даже иноземный язык можно постичь и сделать родным, но не язык писателя.
Но что-то я отвлекся. Я не об этом хотел сказать. Я отвлекся. Я решил писать о смерти, но не о клиническом нашем состоянии или болевых ощущениях. Нет, а как мы, здоровые, живущие, воспринимаем ее издалека. В данном случае Солженицын ускорил во мне этот процесс, думал же я о ней часто и раньше. Часто Анхель говорил:
— Каждую работу делайте так, как будто это работа последняя… — и т. д.
Мысли не новые, но действительно помогающие работать, подхлестывающие, но все равно абстрактные (мы-то знаем, что еще жить и жить нам и еще наворочаем дел кучу), и мы крутимся, вертимся, и вот она приходит и застает всегда врасплох, всегда на пороге гигантского прыжка, как тебе кажется. А что, если ее представить гораздо раньше и тем самым подготовиться к ней и не бояться ее, как потопа.
О чем бы я пожалел больше всего, когда б мне вдруг зачитали смертный приговор? О потерях думает человек, о том, что уже есть и что еще будет, ему кажется (вернее, мне), что чего-то не успел главного, а чего?
Чего я должен успеть, и чего успел, и чего не успел?
Я родился в Великую Отечественную. В самый день ее начала. Война меня не достала в прямом попадании, я был далеко от нее, на Алтае, у Христа за пазухой. Война шла себе, отец воевал, в него попало 4 пули, но ни одна не убила — ему повезло, а я себе рос потихоньку, вместе с моими братьями и сестрами, и, быть может, пули пожалели скорее нас, чем отца.
Отец пришел с войны израненный и жестокий. До 41-го года я его не помню, потому что меня еще не было, а когда я стал быть уже на свете и стал соображать и запоминать, я запомнил, что отец был зол и жесток — на кого и почему, я сейчас не знаю и не могу понять, но это было так. Пусть будет — такой характер, спишем все семейные наши беды и побои на характер отца. Когда-нибудь я все-таки попробую объяснить его характер и причины некоторые, но теперь у меня другая задача. Итак, отец пришел с фронта, а я сломал ногу. Упал в детсаде со второго этажа, а может, и не со второго, а ниже, потому что выше не было ничего, и сломал. Сперва хромал, год меня лечили бабки, местные врачи, помню фразу хирурга: «Гипс бы ему сделать, да бинтов нет», так и не сделали гипса, а, помню, прикладывали ихтиол, вонь его сохранила моя память до самой вот этой смертной черты, которую я себе сегодня представил. Итак, гипса не было, был послевоенный голод, недоедание, конечно, где-то было еще хуже, но и у Христа за пазухой было не сладко, все запасы были съедены войной, хозяйства разорены, мужики выбиты, бабы вкалывали от темна до темна, но не могли пока накормить даже детей, и у меня случился туберкулез коленного сустава. Коленка моя распухла. Как ее ни парили старухи, как ни перевязывали ниточкой шерстяной (я помню, над моей кроватью на стене висела такая ниточка; она должна была снять с меня опухоль иль показать, на сколько она увеличилась, и потом уж вешалась другая, уже большая ниточка). Помню: отец идет широко по пыльным улицам Барнаула, я сижу у него на заку-корках, держусь, семенит рядом мать и плачет украдкой, отец матерится на нее сквозь зубы и сам темный, как ночной лес. По кабинетам начальства, от секретаря к секретарю, с партбилетом, с разными партийными регалиями и пр., через унижения, взятки и пр., до самого секретаря крайкома со мной на закукорках, с заключением профессора — туберкулез кости, немедленно санаторий — за местом для меня в туберкулезный костный диспансер. И добился. Курорт «Немал».
Карцер. Мать в окне. Оставляет меня одного. Плачет. Я успокаиваю ее. Мне семь лет. Надо учиться начинать. В санатории начинают учить с 8 лет. Мать каким-то животным инстинктом чувствует — зачем мне терять год, уговаривает врачей, учительницу Марию Трофимовну (кстати, она потом и останавливалась у нее, когда приезжала меня навестить) — он способный, возьмите его. И вот я в первом классе. Учусь писать, читать, слушаю сказки, окна заколочены на зиму и засыпаны опилками, не все, правда, чтобы было тепло. По ночам горит в печи огонь, тени пляшут, мы спим и смотрим за тенями — великое наслаждение смотреть за живыми картинками, когда привязан годами к койке. Я ведь три года был привязан, меньше всех, мой друг был привязан 11 лет — Илюшка Шерлогаев, — я только сейчас, когда написал его фамилию, подумал: должно быть, он был нерусский, фамилия нерусская, алтайская. Он мне даже писал, когда я выписался, но что мне было уже до него за дело… и я ему писал и посылал рубли… но… мне было 10 лет, и даже письма его я не сохранил, а может быть, их сожгла моя мать, чтобы мне ничего не напоминало о санатории, а я вспоминал, но всегда только хорошо (когда выписался, конечно, когда лежал, я ненавидел его и даже пытался организовать побег).
Мой лечащий врач — Антонина Яковлевна Цветкова, маленькая, худенькая, на высоченных каблуках, строгая и внимательная. Я помню ее руки, пальцы, изучающие мой «футбол», — тонкие, костистые, с длинными пальцами, цепкие — руки скрипача. Я успел в первом классе вступить в пионеры, потому что не было в отряде запевалы, и мне раньше срока повязали галстук, я успел окончить три класса с хорошими отметками, я успел понять, что надо торопиться. Нет, не понять, а почувствовать, мы взрослели раньше обыкновенных здоровых мальчишек, которые, ни о чем не подозревая, гоняли под окнами в футбол и взрывали наше спокойствие.