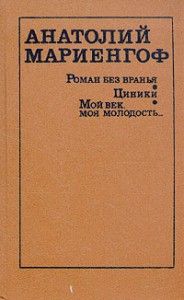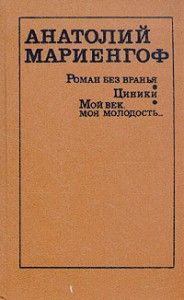Захар Прилепин - Непохожие поэты. Трагедии и судьбы большевистской эпохи: Анатолий Мариенгоф. Борис Корнилов. Владимир Луговской
Лексический строй заёмный, ассонансные рифмы, естественно, тоже: «дорог — творог», и ещё «усилий — сильных», только Якубовский глуховат к языку и не знает, что это однокоренные слова, их рифмовать нельзя.
Ещё из Якубовского:
Над бульваром фонари —
Как серебряные голуби.
А вдали огней багряных
Раны цедят кровь
В улиц жолобы.
Такого у Якубовского — полно.
(Мало того что здесь фирменные «фонари», Мариенгоф ещё последовательно писал «чёрт» как «чорт» и «чёрный» как «чорный» — чтоб это «о» буквально засасывало, отсюда Якубовский заключил, что «жёлобы» тоже звучнее через «о».)
Причём все вышеназванные сочинители в начале 1920-х воспринимались как основная надежда новой советской поэзии, от них ждали прорыва — а они плелись, путаясь в ногах, за Мариенгофом.
Подобные примеры можно ковшом черпать у Григория Санникова и Владимира Кириллова, и у многих, нами здесь не учтённых и не названных.
Жестикуляцию Мариенгофа можно обнаружить и у тех поэтов, которые традиционно относятся к есенинскому кругу, — например у Павла Васильева.
Пример из ранних стихов:
А ночью неуклюжею лапой,
Привыкшей лишь к грузу сетей,
Ищет женщину, рыбьим запахом
Пропитанную до костей.
…………………………
И луна — словно жёлтый гребень,
Запутавшийся в волосах.
Спит таким спокойным и древним
Затаивший звонкость Зайсан.
От самого Васильева здесь только Зайсан, остальное по зёрнышку наклевал.
Или ещё, из его стихотворения «Дорогому Николаю Ивановичу Анову»:
Ты предлагаешь нам странствовать
С запада багряного на синий восток.
Но не лягут дальные пространства
Покорными у наших ног.
Как в лихорадке кинематографических кадров,
Мы не закружимся в вихре минут.
Признайся, ведь мы не похожи на конквистадоров,
Завоёвывающих страну.
Но то, что к лицу Мариенгофу, — не идёт ни пролеткультовцу, ни иртышскому гениальному самородку Васильеву. (Тем более что «странствовать» и «пространства» и у этого парня — тоже однокоренные и к рифме не пригодные.)
Но вот уже в зрелом Васильеве нет-нет да мелькнёт это — но уже мастерски используемое, смотрите классическое стихотворение «Конь»:
В самые брови хозяину
Теплом дышит,
Тёплым ветром затрагивает волосы:
«Принеси на вилах сена с крыши».
Губы протянул:
«Дай мне овса».
Строения строфы, и рифма «волосы — овса»: это, конечно же, опять он, Анатолий Борисович.
Временно в эпигоны Мариенгофа попадают поэты куда более взрослые и опытные, чем он.
Очевидное влияние Мариенгофа можно эпизодически обнаружить в стихах Веры Инбер, начавшей писать ещё до революции и временно променявшей символистское и эгофутуристское влияние на имажинистские изыски.
Михаил Зенкевич был старше Мариенгофа на 11 лет, писал и публиковался с 1906 года, до революции числился акмеистом, но, прочитав Мариенгофа, позабыл Гумилёва и туда же, вслед за юными и зелёными.
Вот примеры из книги Зенкевича 1921 года «Пашня танков» (само название сборника уже имажинистское):
Довольно со скарбом скорби
По скале лет
Робко к чёрному нулю карабкаться,
Чтоб на красном экране паясничал, оскалясь,
Фиолетовой тенью скелет.
Обезвредим время! Наши черепа —
Всех его скоростей коробка,
От лучевых до черепашьих.
Говорит о своём, наболевшем, — а штиблеты у Мариенгофа взял поносить, вернее, «скелет», «череп», «скарб скорби» и паясничанье.
В 1922 году Зенкевич подготовил новый сборник «Со смертью на брудершафт» (опять имажинистское пополам с эгофутуристским название), и там снова всё та же тень маячит с первой же страницы:
И теперь, когда тучи в июле,
Грозовые тучи не мне ль
Отливают из града пули,
И облачком рвётся шрапнель?
И земля, от крови сырая,
Изрешечённая, не мне ль
От взорвавшейся бомбы в Сараеве
Пуховую стелет постель?
И голову надо, как кубок
Заздравный, высоко держать,
Чтоб пить для прицельных трубок
Со смертью на брудершафт.
И сердце замрёт и ёкнет,
Горячим ключом истекай:
О череп, взвизгнувши, чокнется
С неба шрапнельный стакан.
И золото молния мимолётная
Сознанья: ведь я погиб…
И радио… мама… мама…
Уже не звучащих губ.
Стихотворение сильное, но его будто хотел и забыл написать Мариенгоф (причём вдвоём с Шершеневичем).
Можно быть наверняка уверенным в том, что Зенкевич книжки Мариенгофа и всей имажинистской братии держал под подушкой или где-то поблизости.
В начале 1920-х, как минимум по количественным показателям, влияние Мариенгофа было настолько широко, что могло быть сопоставимо только с влиянием Маяковского и Есенина.
Других конкурентов не было.
Но тут есть отличие: Мариенгоф — это, возможно, не столько путь, сколько — вещь в себе. Идти по его дорогам сложно — мало кто задумывался, куда они ведут. Может, вообще в никуда?..
Имажинизм — и мозг, и мышцы, и скелет поэзии Мариенгофа. Чтобы наследовать Мариенгофу, нужно стать имажинистом, жить в 1919 году и дружить с Есениным.
Мариенгоф придумал метод, стиль, собственную дендистскую выправку, открыл собственный материк, поставил столицей Анатолеград, и сам эту страну закрыл.
Хотя…
…Может, всё-таки есть шанс попробовать погулять по его местам снова? Найти возможность использовать эти музейные экспонаты?
Например, уже сто лет после Мариенгофа в России, по большому счёту, никто не пользуется так широко и так изящно ассонансной разноударной рифмой.
Поэзия современная часто дидактична и желает что-то сообщить, а Мариенгоф ничего не сообщает, его ум — в его жестикуляции и расстановке им предметов: всех этих фонарей и гребней. В его поэзии — самое умное: форма. Это очень важное отличие от нынешней иронической, снисходительной, всёзнающей манеры, которая на самом деле ужасно надоела. Пользуясь этой манерой, можно писать тысячи и тысячи иронических строк — собственно, так и делают, — в то время как Мариенгоф написал ровно столько, сколько было нужно: один томик, можно за вечер прочесть.
У Мариенгофа, при всём его иронизме, восприятие бытия трагическое, и его трагедия — эпоха, внутри которой он жил и за которую отвечал. У нынешних трагедия только в том, что они очень умные и ужасно устали всё презирать, в том числе любые эпохи.