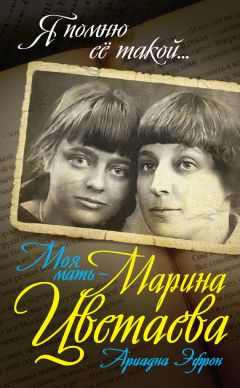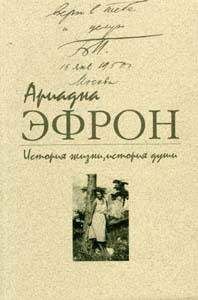Ариадна Эфрон: рассказанная жизнь - Эфрон Ариадна
Так вот, этот худой, длинный, лысый и несчастный увлекся мною до безумия. А я ему помогала, просто работала за него, потому что мне легко, а он не мог, никак это у него не получалось… Да и еще, знаешь, с идеями – ужас, худший тип сельского учителя!
И стал дядя Петя как-то косо на меня поглядывать и разговаривать стал по-другому. А я тогда не понимала, не обращала внимания, потом уже я раскусила все это, постфактум. Решив, что не может же быть все просто так, что что-то между нами есть, он был оскорблен в каких-то тайных, духовных ко мне чувствах и начал так это, по-горбатому, что-то плести. Сначала он выжил этого несчастного Володю, которого вдруг за что-то перевели в штрафной лагпункт, хотя он был чист как младенец. Потом он решил и мне отомстить.
Я как раз освобождалась. В ближайшие дни должен был прийти маленький поезд, такая теплушечка, которая объезжала все лагпункты, собирая освобождающихся, и везла в определенное место, где все и оформлялось.
И вот какую штуку удумал мой дядя Петя.
Подходит ко мне один из заключенных:
– Аллочка, – как говорили блатные, – возьми письмо. – А это было строго запрещено, за это набавляли срок, небольшой, правда. – Жена, – говорит, – то-се, пусть она мне хоть посылку пришлет, опусти на воле!
– Давай, – говорю.
Взяла письмо, взглянула на него – и вдруг все поняла. Бывает, знаешь, так – вдруг!
Пошла я в сортирчик, а эти будочки по всей территории стояли, порвала это письмо в мелкие клочки и выбросила.
И вот пришло время на вахту идти, куда эта теплушка подходит. Иду я, меня провожают, деревянный чемоданчик мне сделали, каких-то игрушек деревянных мне в подарок наделали. И дядя Петя стоит, смотрит.
И вдруг подходит ко мне женщина, дежурная по вахте, и просит пройти с ней в помещение. Я прохожу. Она перетряхивает весь мой чемоданчик и говорит:
– Раздевайтесь!
И начинается так называемый личный досмотр, когда трясут бюстгальтер и все прочее…
– Можете идти. – Я поворачиваю к двери. – Стойте, волосы! – и начинает прощупывать.
Я говорю:
– Господи, да нет ничего! Что вы, вшей, что ли, ищете, боитесь, что увезу на экспорт? Уйдет ведь теплушка!
Она наконец меня отпускает, я вылетаю с распущенными волосами, вскакиваю в эту теплушку, и она трогается.
И вот уже в Рязани, после войны (жила я там у родителей мужа Нины Павловны), пошла я как-то в воскресенье на базар. А базар там был удивительный, там, например, я видела слепцов, которые пели старинные духовные стихи, знаешь, «Лазаря»… – фантастика!
И вот иду я, а дорога поднимается, базар на возвышении. Иду я по этой дороге и вдруг слышу:
– Аля!
Смотрю краем глаза в том направлении – дядя Петя! Сапоги продает. Иду, не оборачиваясь.
– Аля! Ты что, оглохла?
Иду дальше.
– Аля! Да ты что ж, знаться не хочешь?!
Иду мимо.
И все. Больше он ничего не сказал, видно, все понял.
И надо же было – после стольких лет, после столького всего так встретиться! Да, много удивительного было в жизни. И там тоже. Там вообще было интересно. Очень интересно. Только очень долго. Знаешь, как говорят французы: шутки хороши только короткие. А когда они затягиваются, то перестают быть шутками.
Рязань
В Рязани нашлись такие милые люди, которые устроили меня работать в художественное училище, и стала я там председателем приемной комиссии. И ходили ко мне всякие мамаши, мечтавшие определить своих отпрысков в такое интеллигентное учебное заведение.
И вот однажды пришла такая мамаша, очень дерганая, нервная, и привела дитятко, такого недокормыша – лысенького, с печальными глазами, – который перерисовал с открытки «Трех богатырей», несколько их увеличив и изувечив, как только мог. На рисунке видны были клеточки, по которым он его переносил, а это было запрещено. Я сказала:
– Очень мало шансов…
И не успела я договорить, как она шлепнула мне на колени какой-то кулек, взяла сына за руку и быстро удалилась.
– Ой, Аля, что тебе?!
Налетели, развернули, там оказалось полкило конфет «Ласточка», и не успела я возмутиться, как конфеты – тю-тю! – расклевали…
И вот первый экзамен. Рассадили детишек, поставили перед ними кувшин, рядом положили два яблока – восковых, конечно, чтобы не съели. Они сидят, рисуют, а я вышла в коридор. И ко мне с такой улыбкой – всей душой! – бросается та мамаша. И я тоже… как-то невольно улыбаюсь, и тоже – всей душой!..
Но мальчик летел турманом после первого же кувшина. И я потом, если видела их где-нибудь на улице, всегда переходила на другую сторону…
А один раз пришла босая крестьянка, в понёве – синей в красную клеточку, повязанная платком, за спиной холщовый мешок, в котором звенели два пустых бидона, – видно, торговала молоком на рынке. И там же, в мешке, была ее обувка, которую она надевала только при исполнении служебных обязанностей, то есть торгуя молоком.
И с ней мальчик – худенький, беленький, голубоглазый, светлый, в рубашонке и холщовых штанах, и тоже босиком. Ему было четырнадцать лет, а на вид десять-двенадцать.
– Вот, – сказала она, – уж очень хочет у вас учиться. Это мой сыночек, он у нас пастушок и все рисует, рисует…
– А где же твои работы? – спросила я его.
И тогда он, глядя на меня своими ясными глазами, полез за пазуху и достал – свернутые в трубочку, на бумаге в клеточку, сереньким карандашиком… Как юный Джотто, он рисовал овец и телят. Очень стоящие работы были.
И я кинулась в ноги всем – и директору, и завучу, и они были неплохие люди, они бы взяли его, взяли бы и без акварелей, и без каких-то иных вещей, но единственная вещь, которую они никак не могли обойти, было образование. Это был техникум, а у него – всего 4 класса…
Он это выслушал, весь вспыхнул, глаза его вмиг налились слезами, он опустил голову и очень прямо вышел.
А один раз пришел ко мне один студент и сказал:
– Я решил вступать в партию, без этого не проживешь, в люди не выбьешься. Так вот… нужно взять из канцелярии мое личное дело, вынуть оттуда анкету и характеристику и вложить другую анкету и другую характеристику, которые я вам дам.
Я спросила:
– А в чем дело?
– А у меня отец был священник. Вот справка о том, что он погиб на поле боя в звании подполковника, у меня дружок в военкомате работает… а на самом деле он был арестован и погиб в заключении.
Ну, все это и было проделано. Я решила, что будет справедливо, если сын священника получит от советской власти что-то другое, чем его отец, и сможет сделать карьеру.
Сейчас он заслуженный художник РСФСР.
В жургазовском доме
После лагеря, когда я жила в Рязани, я иногда приезжала в Москву. А тогда было так: только двадцать четыре часа ты могла находиться в Москве, а потом надо было уезжать, ну или скрываться – уходить ночевать в другое место.
Ну вот, пробыла я сутки у теток, а на вторые пошла к Нине Павловне, которая была всегда очень гостеприимна, очень приветлива, тем более что ее собственный муж находился в таком же положении.
Жила она тогда на Самотеке, в четырехэтажном жургазовском доме, в двухкомнатной квартире. А соседи были – Медниковы. Папа и мама, пожилые люди, дочка их была замужем за джазистом Пятигорским, и младенец, над которым дед с бабкой так дрожали, как могут дрожать только евреи и только над отпрыском мужеского пола.
Так вот, поднимаюсь я по лестнице на третий этаж и вдруг слышу внизу какой-то шорох. Я перегнулась через перила и вижу: молодой человек бесшумными прыжками поднимается наверх. Я сразу поняла, кто этот молодой человек, но как-то не отнесла это к себе, потому что в этом доме всегда жили иностранцы, всегда кто-то приходил и кто-то был под наблюдением.
Я позвонила, открыла мне мама-Медникова. Нина Павловна была еще на работе, потом она пришла, мы сидели и мило коротали вечерок, как вдруг раздался резкий звонок в дверь, звонок весьма характерный. Что делать? Мы с Ниной Павловной, с нашей вечной привычкой идти прямо в костер, идем открывать. Но тут вдруг подскакивает ко мне мама-Медникова, сует мне в руки драгоценного младенца, высаживает меня на балкон, закрывает балконную дверь, заставляет ее каким-то столиком, и они идут открывать. И еще успели мне шепнуть, что если я попадусь, то они скажут, что это их приятельница прогуливает ребенка.