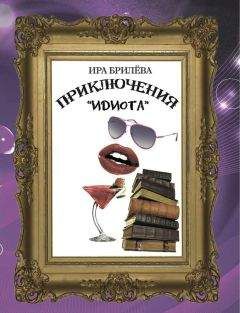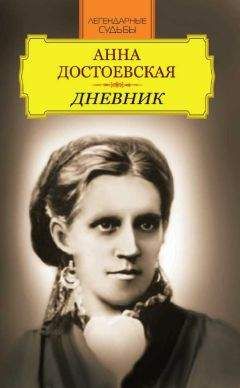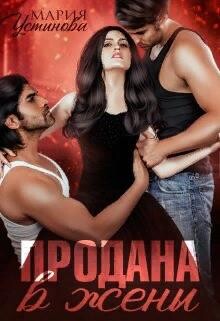Невероятная жизнь Фёдора Михайловича Достоевского. Всё ещё кровоточит - Нори Паоло
5
Все невероятно усложняется
23 апреля 1849 года Достоевский вернулся к себе домой в три часа ночи. Жил он тогда на Вознесенском проспекте, в доме номер восемь (это был дом купца Шиля), в самом сердце Петербурга, в семи минутах ходьбы от Медного всадника – памятника Петру I, установленного Екатериной II, у подножия которого в декабре 1825 года произошла первая попытка государственного переворота – восстание декабристов. Подавленное Николаем I, оно захлебнулось в крови; прошло двадцать четыре года, а Николай I все так же оставался императором всея Руси.
Комнату на последнем, третьем, этаже этого дома Достоевский снял весной 1847 года.
Здесь он пишет повесть «Белые ночи», заканчивает большой роман «Неточка Незванова», который, по его мнению, гораздо лучше его первого романа «Бедные люди», принесшего ему известность, однако уже вызывающего у него сомнения: для писателя это уже вчерашний день.
«Неточку Незванову», начатую в 1846 году, он обязался закончить к середине лета 1849-го.
Однако той апрельской ночью 1849 года Достоевский, не проспавший и часа, сквозь сон слышит шум и, разбуженный звяканьем сабли, открывает глаза. В его комнате какие-то люди.
«Слышу мягкий, симпатический голос: „Вставайте!“
Смотрю: квартальный или частный пристав, с красивыми бакенбардами. Но говорил не он; говорил господин, одетый в голубое, с подполковничьими эполетами.
– Что случилось? – спросил я, привстав с кровати.
– По повелению…
Смотрю: действительно „по повелению“. В дверях стоял солдат, тоже голубой. У него-то и звякнула сабля…
– Позвольте же мне… – начал было я.
– Ничего, ничего! Одевайтесь. Мы подождем-с, – прибавил подполковник еще более симпатическим голосом».
Жандармы «потребовали все книги и стали рыться», забрали бумаги Достоевского и его книги, пристав «полез в печку и пошарил чубуком в старой золе.
На столе лежал пятиалтынный, старый и согнутый. Пристав внимательно разглядывал его и наконец кивнул подполковнику.
– Уж не фальшивый ли? – спросил я.
– Гм… Это, однако же, надо исследовать… – бормотал пристав и кончил тем, что присоединил и его к делу».
Они выходят на улицу, сажают Достоевского в карету и везут в полицейский участок возле Летнего сада.
Так что же произошло?
В начале декабря 1845 года Виссарион Белинский устраивает публичный вечер чтения в том же доме на Невском проспекте, где он впервые встретился с Достоевским, после того как прочитал его «Бедных людей». Достоевский читает главы своего второго романа «Двойник» (с подзаголовком «Петербургская поэма»). Помимо хозяина дома, присутствуют Тургенев, Григорович и другие.
Чтение проходит не очень удачно.
Вскоре начнут высказываться сомнения даже в необыкновенном таланте Достоевского.
Некоторые позволяют себе усомниться и в его первом романе, который больше не кажется им таким уж бесспорным шедевром. Тургенев будет утверждать спустя несколько лет: «Преувеличенный восторг, возбужденный в Белинском „Бедными людьми“ Достоевского, свидетельствовал о болезни критика и связанном с нею упадке работоспособности».
Но все это выйдет на поверхность позже, а тогда, в 1845 году, Белинский и его окружение считают повесть «Бедные люди» шедевром.
Чего не скажешь о «Двойнике».
Белинский высоко оценил тему романа, но советовал поработать над формой.
Еще одна странность, связанная с этим романом, с этой «Петербургской поэмой», состоит в том, что именно это произведение писателя иногда нравится тем, кто вообще не любит Достоевского, и таких немало. Самый известный из них – Владимир Набоков, считавший, что повесть «Двойник» – лучшее из написанного Достоевским.
И наоборот, те, кто любит Достоевского (а таких огромное множество), не всегда воспринимают «Двойника».
Скажем, я читал роман три раза, но не помогло: мне он не нравится.
Не могу ухватить идею.
Говорят, однажды у Набокова спросили, какую мысль он хотел донести до людей своим новым романом, на что он ответил: «Если бы я хотел что-то доносить до людей, я стал бы почтальоном».
Так же непросто разобраться и с идеей. Не думаю, что в романе может быть заключена одна идея.
Очень долго я считал, что в основе романа Достоевского «Идиот» лежит идея о том, что красота спасет мир. Но когда несколько месяцев назад перечитал роман, я понял, что эту фраза, которую, как мне казалось, несколько раз произносит князь Мышкин, он на самом деле не говорит.
Фраза звучит в романе в двух сценах. В первый раз, когда юный Ипполит Терентьев спрашивает у Мышкина: «Правда, князь, что вы раз говорили, что мир спасет „красота“?» – но Мышкин в ответ не произносит ни слова. В другой раз мы слышим ее из уст Аглаи Епанчиной, когда она обращается к Мышкину: «Слушайте, раз навсегда, если вы заговорите о чем-нибудь вроде смертной казни, или об экономическом состоянии России, или о том, что „мир спасет красота“, то…» Мышкин ей тоже ничего не отвечает. Вполне возможно, что Мышкин вообще ничего такого не говорил, и эти слова ему просто приписывают, мы не знаем наверняка. Одно я знаю точно: это не основная идея романа.
Но до появления «Идиота» пройдет еще лет двадцать, а пока мы по-прежнему находимся в 1846 году.
Опубликованный «Двойник» наталкивается на довольно холодный прием, разочарованы и друзья Достоевского, считавшие, что при всей красоте идеи форма выбрана неудачно.
Чем так хороша эта идея, я не берусь судить.
Возможно, как считал Леонид Гроссман, идея двойственности интересна тем, что она владела Достоевским на протяжении всей жизни и только в последнем романе «Братья Карамазовы», пройдя очень длинный путь, он сумел полностью раскрыть ее.
Но в моем понимании идея двойственности не отличается ни новизной, ни революционностью, она даже не вполне «достоевская». И знаете, почему еще я так скептически отношусь к «Двойнику»? У меня не возникает никакого желания перечитать его еще раз.
Но и в этой повести есть моменты, которые мне очень нравятся, например контраст между мелким чиновником Голядкиным, главным героем повести, и жутким Петербургом.
«Ночь была ужасная, ноябрьская, – мокрая, туманная, дождливая, снежливая, чреватая флюсами, насморками, лихорадками, жабами, горячками всех возможных родов и сортов – одним словом, всеми дарами петербургского ноября», – пишет Достоевский в «Двойнике». А сам Голядкин, этот малопонятный (лично для меня) персонаж, когда в какой-то момент произносит: «Ясно, что подкупали, шныряли, колдовали, гадали, шпионничали, что, наконец, хотели окончательной гибели господина Голядкина», – представляется мне прообразом человека из подполья, сказавшего: «Я-то один, а они все».
Однако человек из подполья, который появится два десятилетия спустя, на мой взгляд, нашел для этой мысли более запоминающуюся форму, которая лично меня трогает, ранит и волнует гораздо больше, чем способен тронуть и взволновать Голядкин, так и оставшийся для меня, сколько бы я эту книгу ни перечитывал, отвлеченным и малоубедительным персонажем, вопреки мнению почтеннейшего господина Набокова.
Мне стыдно в этом признаться, но я даже не понял, существовал ли двойник Голядкина на самом деле. Я ничего не понял в этом романе, тогда как человека из подполья, мне кажется, понимаю очень хорошо.
Однако время человека из подполья еще не пришло.
В 1846 году, вскоре после выхода «Двойника» Достоевский опубликовал рассказ «Господин Прохарчин», к замыслу которого публика тоже отнеслась прохладно.
Появление «Господина Прохарчина» было вынужденным шагом – писать его приходилось в довольно стесненных обстоятельствах.
Главный герой рассказа, как и в «Бедных людях» или в гоголевской «Шинели», – чиновник, мелкий канцелярский служащий. Цензура, по какой-то непонятной причине, запретила Достоевскому использовать даже слово «чиновник».