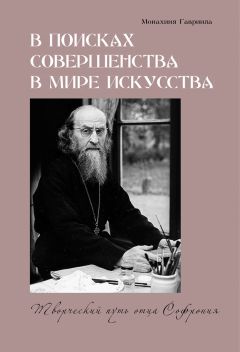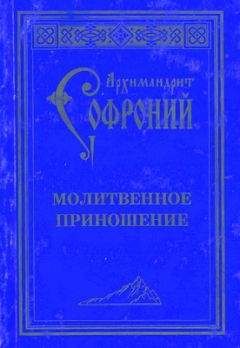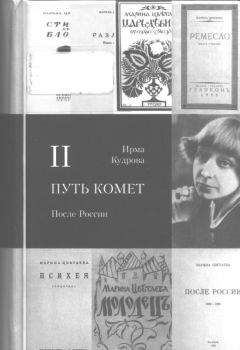Наталья Казьмина - Свои и чужие. Статьи, рецензии, беседы
Для каждого, кто мало-мальски причастен к театру, в этом Событии – бездна смысла и личного содержания. Все-таки каждый из нас прошел часть пути вместе с Таганкой. Так что юбилей Любимова – вечер воспоминаний для очень многих. И эти многие, думаю, с удовольствием свои воспоминания перетряхнули.
Судьба Любимова есть опровержение того мнения, что все в этом мире предопределено. Его опыт доказывает, что предчувствия порой обманывают, а предсказания не сбываются. И ничто не вольно помешать человеку, если он решил сопротивляться фатуму. Это кому-нибудь другому легко переломать хребет, но только не Любимову, который и породой, и статью, и душевным здоровьем пошел, видимо, в деда, ярославского крестьянина. Сколько ни ставили на пути Любимова запретительных знаков – «кирпич», «тупик», «проезд закрыт», «ограничение скорости», – как ни сужали его право выбора и творческие возможности, он все-таки выстроил жизнь так, что вправе сказать сегодня: «Я сам себе хозяин и судья».
Он застал еще МХАТ Первый в пору его расцвета и МХАТ Второй в пору его позорного закрытия. Он видел на сцене Остужева и Михаила Чехова, Михоэлса и Хмелева, чье искусство, по его словам, заставило его всерьез задуматься над профессией и стало подножием творческого метода. В фойе Театра на Таганке, как иконы, висят портреты четырех гениев, которым Любимов хотел наследовать и наследовал: Станиславский, Мейерхольд, Вахтангов и Брехт. Насильственно отлученный от первых учителей, Любимов ушел в Вахтанговский театр и стал его премьером. Говорят, актеры-красавцы, подвизающиеся на ролях героев-любовников, часто глупы. Любимов опроверг даже эту театральную банальность. Он мог безбедно прожить свой век в театре на Арбате. Однако ж черт понес его на другую галеру. В 47 лет, когда многие (и не только дамы) уже подводят итоги, думая, что жизнь, в сущности, кончена, Любимов все начал заново. С риском для жизни и карьеры бросился вплавь, не ища брода. Видимо, уже тогда был уверен, что уныние – самый тяжкий грех.
Театр на Таганке не стал еще одним театром в Москве. Он стал единственным в своем роде. А его главный режиссер – создателем своего стиля и направления в искусстве. Не каждому, даже самому талантливому режиссеру удается в жизни стать реформатором.
Театр на Таганке был театром бедным и гордо блистал наготой дощатого пола и кирпичной кладки. Его мастерили из подручных материалов – из детских кубиков, плах и топоров, зеркальных рам, самолетных кресел, кузова полуторки, из обыкновенного вязаного занавеса. Но мастерили метафорическое пространство новой драмы жизни. Стучали, как в кинотеатре, жесткие сиденья партера. А на балконе было жарко, как на солнцепеке. Балкон готов был обвалиться от количества желавших приобщиться к любимовскому высказыванию. В театре работали веселые разночинцы, а не надменные баре, плоть от плоти своей верной публики. Они вылетали на сцену гурьбой, нахальные, свободные, иногда босые, в черных свитерах. А потом рассыпались цепью вдоль знаменитого светового занавеса и смотрели зрителю прямо в глаза. Им нечего было скрывать друг от друга. Таганка была театром не бытовым, а бытийным. Она обращалась к зрителю языком первоклассной прозы и поэзии и говорила о главном. Это был театр политический, он имел свое мнение по поводу всех происходящих вокруг процессов. И это был театр художественный, со своей эстетикой. Он вклинивался в толпу, сминал ее и тормошил, пытаясь превратить в «мыслящий тростник».
Присутствие Любимова в театральном контексте 60-80-х годов означало, что «им» не все разрешено, а «нам» можно попробовать не бояться. Его спектакли воспринимали как акт гражданского неповиновения и мужества, как поступок, осмысляющий наш общий и бессмысленный полет. Спектакли беспощадно кромсали и закрывали. Но их и отстаивали. С боем, как последнюю высоту. И в этом последнем бою были упоение, смелость, ощущение гибельного счастья. А то, что у театра всегда находились друзья, и было этих друзей много, и казались они сильными и благородными, наполняло скучную жизнь надеждой.
Шестнадцать лет спустя после рождения Таганки Любимов потерял своего главного актера. Многолетняя его борьба за Владимира Высоцкого закончилась трагическими похоронами, которые в 1980 году ощущались как горе целой страной. Двадцать лет спустя у Любимова отняли родительские права на Таганку. Лишили гражданства и выгнали из страны. Друзья оплакали его, как покойника. Но произошло невероятное: судьба опять отступила, и он вернулся. Потом короткое ликование снова обернулось несчастьем. Любимов потерял свой дом во второй раз. Пережил бунт своих первых актеров, их демонстративный уход и раскол театра. Это называли веянием времени, репетицией демократических перемен: раскол МХАТа, раскол Ермоловского театра, раскол Таганки. Но только Любимов, единственный из всех, сохранил и дух своего дома, и его плоть. В 47 лет он создал театр. В 70 с лишним он его пересоздал. И за последние десять лет собрал новую, молодую команду. Публика уже запомнила имена этих актеров. Они перестали быть хором. Они стали солистами.
Любимов мог бы уже ничего не ставить. Он все равно Любимов. Был и есть. Однако, если призвать в свидетели Гёте, – он «слишком стар, чтоб знать одни забавы, и слишком юн, чтоб вовсе не желать». Он продолжает работать, как бешеный, и остается верен себе. Не страшится восстановить «Доброго человека из Сезуана» и сам проверяет свою легенду на прочность. С упорством и страстью читает нам своих любимых авторов, Шекспира и Достоевского. С иронией и язвительностью колет парадоксами безумца из Шарантона, маркиза де Сада. Танцует рэп и лукаво декламирует Пушкина, отчего бессмертные строки «Евгения Онегина» кажутся еще дороже и ближе. То врачует раны, нанесенные трагической русской историей, с помощью Живаго (доктора). А то вдруг архаичным, казалось бы, языком «Фауста» рисует перед нами абсолютно современные картины «потока вечности», смуты и хаоса в мире, где правят бесы. В своем последнем спектакле Любимов снова говорит о главном – о деле, о даре, о тщете мирских соблазнов, о цели человеческой жизни, которая должна же быть и которую не сумеют подбить на лету ни бог и ни черт. Если, конечно, человек мудр даже в своих заблуждениях.
Когда на сцену «Фауста» вылетают в азартном степе любимовские студенты, родившиеся после «золотого века» легендарной Таганки, ты понимаешь, что Таганка жива, а ее многострадальный родитель возле этих сопляков, опять нахальных и опять свободных, молодеет душой, храня ее от дьявола. Вслед за Фаустом этот Любимов делится с нами не только сомнениями, но и способом обретения истины:
«В начале было Слово». С первых строк
Загадка. Так ли понял я намек?
Ведь я так высоко не ставлю слова,
Чтоб думать, что оно всему основа.
«В начале Мысль была». Вот перевод.
Он ближе этот стих передает.
Подумаю, однако, чтобы сразу
Не погубить работы первой фразой.
Могла ли мысль в созданье жизнь вдохнуть?
«Была в начале Сила». Вот в чем суть,
Но после небольшого колебанья
Я отклоняю это толкованье.
Я был опять, как вижу, с толку сбит:
«В начале было Дело» – стих гласит.
В сущности, Юрий Петрович Любимов, или просто Петрович, как грубовато-ласково называют его за глаза, ни в каких званиях и орденах уже не нуждается. Его главное звание – Имя. Оно вошло в историю мирового театра. Его главный орден – Театр на Таганке, им созданный, прославленный и возрожденный. Он ведь, шутка сказать, совершил театральную революцию в одной, отдельно взятой, стране. Помня заветы и зная традиции, Любимов упрямо двигался в искусстве своей дорогой и заставил плодоносить одну из самых причудливых ветвей того художественного древа, что некогда было посажено купцом Алексеевым. Великий ребенок, К.С. Станиславский был в искусстве человеком узких убеждений, но большого сердца. Он сумел при жизни обрадоваться успехам своих лучших учеников, Всеволода Мейерхольда и Евгения Вахтангова. Был бы доволен и сейчас, приветствуя ученика своих учеников.
* * *Мировая знаменитость, как и все простые смертные, ходит дома в тапочках, ест бутерброды с сыром и сам открывает нам дверь. В гостиной пахнет мандаринами и цветами, которые охапкой лежат на полу. Мы переступаем порог и рассказываем, как долго искали его подъезд в темноте, а надо было бы сразу догадаться – именно перед любимовским разлилась безбрежная лужа. Зная страсть Юрия Петровича к точности и порядку, мы ждем от него какого-нибудь монолога наподобие булгаковского. Про то, например, что разруха – это «если я, вместо того чтобы оперировать каждый вечер, начну у себя в квартире петь хором». Но Юрий Петрович устало машет рукой, выключает новости по ТВ и только усмехается: – Это наши русские умельцы специально сделали там барьерчик, чтобы водичка застаивалась[9].
Юрий Любимов. Живой[10]