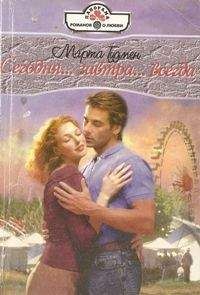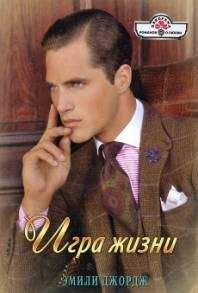Виктор Есипов - Василий Аксенов — одинокий бегун на длинные дистанции
— И как же вам удалось стать гражданином Соединенных Штатов?
— А у меня был коллега в нашей группе профессоров, в прошлом член правительства, чернокожий историк. Я ему говорю: «Роджер, ты всех здесь знаешь, устрой мне американское гражданство». Через неделю меня вызывают в комиссию по визам и в торжественной обстановке — руку кладешь на сердце, присягаешь флагу — дают сертификат. Проходит еще неделя, мне звонят из агентства и говорят: «Господин Аксенов, у нас для вас приятная новость: решено дать вам американское гражданство», — а я отвечаю: «Спасибо, у меня уже есть, а это отдайте кому-нибудь другому».
— Наших эмигрантов часто просили писать или говорить плохо об СССР, о нашей недавней действительности. Вы сталкивались с этим за рубежом?
— Ой, постоянно! У них выработались странные клише, что русские и вообще славяне — какие-то топорные мужики, в этом русле они нас и отображают. Люди коммерции до сих пор не интересуются современными тенденциями и культурой. В университетах, а я преподавал в них 24 года, совсем другая среда, и там иной разговор. А что касается Голливуда или больших издательств, то они ищут что-то похожее на «Братьев Карамазовых», чтоб были страсти-мордасти, бубенцы везде звенели, кто-то кого-то придушил, сожрал стакан. Недавно они вдруг поймали то, что пришло из России и явилось для них откровением, из которого они тут же сделали новое клише, — это образ русской мафии. И пошло-поехало: все страшные, мордастые, обвешанные цепями. Такие вещи в Голливуде проходят и даже приветствуются. А тему из моего романа о превращении полуострова Крым в остров они не понимают, потому что вообще не знают, что Крым — полуостров. У нас своя версия обороны Севастополя — а там другая. У них есть только героическая медсестра Флоренс Найтингейл[509], а матроса Кошку они уже не знают. Так что нам еще надо пробиваться в тот мир.
— М-да, а для нас американский стандарт еще не так давно состоял из ломящихся полок супермаркета…
— Это в самом деле сильно действовало. Помню, когда Горбачев стал генеральным секретарем и приехал в Америку к своему другу Александру Яковлеву, который тогда был там послом, ему устроили несколько неформальных визитов, в том числе в супермаркет. Михаил Сергеевич вошел туда, превозмогая ошеломление, прошелся по рядам, посмотрел, но сдержал эмоции. А когда они поехали дальше, он, увидев супермаркет у дороги, вдруг попросил: «Остановите!» Ему говорят: «Михаил Сергеевич, зачем, вы же только что были там». Но он настоял. Опять зашел и, увидев те же бесконечные ряды с разной всячиной, понял, что первый супермаркет — это не какой-то специальный магазин, укомплектованный, чтобы произвести на него впечатление. То есть даже первому лицу было трудно поверить, что их быт — не миф. Кстати, недавно Михаил Сергеевич, увидев меня на одном мероприятии в Москве, похлопал по спине и сказал: «Вася, я до сих пор помню одну твою фразу из любимого романа». Я заинтересовался: «Какую же?». Горбачев ответил: «Вошла пожилая женщина тридцати пяти лет».
— В общем, генсека тоже можно понять… А как долго вы вписывались в американскую реальность? Изменился ваш менталитет за годы жизни за границей?
— Очевидно, изменился. Я приехал в Америку в 1980 году и сразу же начал работать в университете. Это большая удача. Все прошедшие годы мой главный источник существования — университетская деятельность и преподавание. Я сменил несколько университетов и в целом отдал им много сил. Должен ответственно сказать, что университетский кампус — это самая лучшая часть американской жизни. Я всегда с каким-то даже наслаждением начинал каждый новый учебный год, за эти годы через мой класс прошли тысячи студентов.
— По иронии судьбы в Москве вы снова живете в знаменитой высотке на Котельнической набережной, из которой когда-то уезжали в эмиграцию…
— Эту квартиру мы получили от нового московского правительства после путча 1991 года. Как ни странно, в том же доме, в котором жили прежде. Когда-то в нем жило много известных людей культуры, а теперь больше иностранцы.
— Василий Павлович, что сейчас вас интересует больше всего?
— Больше всего меня интересует писанина, между прочим. Когда я писал «Кесарево свечение», для меня это было как бы итоговым трудом XX века, и я даже решил, что уже хватит. Навалял много. Но потом через несколько месяцев опять воспрял и стал что-то сочинять.
— В свое время вы выказали явное неравнодушие к творчеству Венедикта Ерофеева. Ваше мнение о нем остается прежним?
— Веничка — человек совершенно колоссального таланта. Но, к сожалению, несостоявшейся писательской судьбы. Он просто сжег сам себя, это был акт самоуничтожения — не мог остановиться перед водкой. Можно сказать, он прожил жизнь своего героя. Трудно говорить как о классике о человеке, все наследие которого помещается в книжечке в палец толщиной, хотя «Москва — Петушки» очень талантливая вещь. У Сергея Довлатова похожая судьба. Хотя он, конечно, намного больше написал. Но Веничке не надо было никого обеспечивать, кроме себя самого, а Сергею надо было содержать две семьи, он работал на несколько редакций. Он мог стать грандиозным писателем. Когда я прочел его «Заповедник», я был потрясен и подумал, что он подошел к большому роману, но, к сожалению, он этот шаг не сделал и погиб.
Довлатов был у меня за полгода до смерти. Собралась компания, все выпивали, а Сергей ничего не пил, говорил: мне врач сказал, что если в течение полугода не прикоснусь к спиртному, то могу выздороветь. Но потом не смог… Сейчас все стали с ним носиться, а тогда здесь никто его не знал, его упорно не печатали, только в самиздате что-то выхолило. Сначала Довлатов стал известен американскому читателю. У него появилась переводчица-американка, которая была вхожа в журнал «Нью-Йоркер». А в этом журнале напечататься — все равно что Героя Социалистического Труда получить. Я в нем тоже печатался. А у Сергея там выходил рассказ за рассказом, и он получал большие гонорары, известность. Его стиль точно совпал с минималистским лекалом американских журналов. В нем была недоговоренность, острый, но ненавязчивый юмор…
— Ваши взгляды как-то изменились за прошедшие годы?
— Взгляды у меня хамелеоновские — везде приспосабливаюсь. (Смеется.) А если всерьез, то они у меня как были, так и остались — антитоталитарные. Я западный либерал.
— Отшлифованный взаимодействием с другой культурной средой?