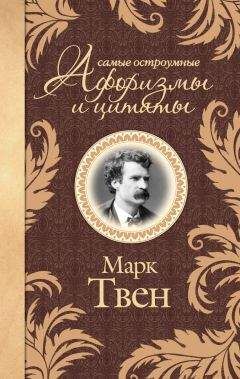Максим Чертанов - Марк Твен
Предупредив конгресс о своем хитроумном плане, Король, весь в белом, вернулся в Нью-Йорк и продолжал удивлять народ. В передовице «Таймс» описана новогодняя вечеринка в его доме: вышел к гостям с каким-то молодым человеком (это был поэт и издатель Уиттер Биннер), тоже в белом, объявили, что они — сиамские близнецы, один из которых пьяница, а второй трезвенник, хозяин дома изображал пьяницу. 2 января 1907 года поехали с Туичеллом и Лайон отдыхать на Бермуды: Изабел хозяина баловала, приносила шлепанцы, раскуривала сигары, Туичелл полушутя сказал ей, что она «портит» его друга. Возможно, он что-то сказал и Твену, ибо тот по возвращении попросил Пейна на время переехать к нему: возможно, ему не нравились слухи о его предстоящем браке с Изабел.
По словам Пейна, болтали целыми днями, чаще всего — о религии и астрономии, которой Твен увлекался в тот период. «Солнца и планеты, что образуют созвездия мириад мириадов солнечных систем и изливают поток сияющих светил по бескрайним артериям космоса, — кровяные тельца в жилах Бога; народы же — это микробы, что роятся, и вертятся, и бахвалятся в каждом из них, и думают, что Бог говорит с ними на таком безмерном расстоянии и что ему больше нечем заняться. Это — лишь спектакль по имени Вечность. Нужно совсем не иметь честолюбия, чтобы согласиться играть в нем роль Бога. Богохульство? Нет, это не богохульство. Если Бог так велик, как он есть, он выше богохульства, и если он так мал, как он есть, он ниже его». Твен жаловался Пейну на кошмарные сны: он — лоцман, не может разглядеть препятствие, вот-вот погубит судно; он выступает перед аудиторией, но никто не смеется, его оставляют одного в пустом зале; он говорит, что его имя — Марк Твен, а ему никто не верит, и все уходят от него прочь. Страхи были беспочвенны: еще никто всерьез не называл его «старьем», публика, как и прежде, обожала, в январском номере «Норз америкэн» йельский профессор Уильям Фелпс (знакомый по Хартфорду) назвал Твена «величайшим американским романистом», предрек, что его слава переживет славу всех американцев, поставил его выше Холмса, Хоуэлса, Джеймса, Готорна. Фелпс был столь авторитетен, что его статья означала «официальное» признание. А кошмары — снились…
Зимой Твен пару раз (в сопровождении секретарши) навещал Джин. Та гуляла на воздухе, каталась на лыжах, это было полезно, но в целом состояние девушки не улучшилось, так как все «лечение» заключалось в строгой диете. Заведующий клиникой Шарп обращался с эпилептиками как с детьми: они не могли сами выбрать, с кем сидеть за столом, кого пригласить в гости. Часто приезжала сестра, но это не приносило облегчения; когда Джин влюбилась в одного из врачей, Хиббарда, Клара доложила об этом Шарпу и флирт был пресечен. Джин писала в дневнике: сестра и отец рады, что избавились от нее. Винила только себя: больна, неумна, неинтересна. Встречи с отцом были тяжелы, дочь тосковала, плакала: «Я так жажду быть с ним, обнять его!»; «Отец мне позвонил! Это меня ошеломило. О, как я хочу к нему. Я заплакала, я не могла сдержать слез, и голос отца тоже надломился». Джин рассчитывала, что в конце зимы ее выпустят, но лечащий врач Хант сказал, что «лечение» только началось.
Пейн пожил и уехал, Изабел опять осталась с хозяином наедине. Записывала в дневнике, что по утрам караулит его на лестнице; любит приходить в ванную и наблюдать, как он бреется или моет голову; что он «очень привлекателен в нижнем белье»; что она просиживает дни в его спальне и хотела бы спать там и т. п. Для биографов, взявших ее сторону, эти слова — доказательство того, что Твен ее поощрял; они также полагают, что она была его любовницей, хотя даже сама Изабел ничего подобного никогда не утверждала и писала о своих чувствах к хозяину, а не его к ней. В марте они вновь съездили на Бермуды — вдвоем. Но Изабел не была вполне счастлива: дожив до семидесяти, Твен обнаружил, что нравится женщинам…
Главная соперница Изабел — Шарлотта Теллер; осенью 1906 года секретарша сказала Твену, что Шарлотта — «авантюристка» и распускает слухи о том, что он на ней женится. Твен и Шарлотта поругались, он жаловался жене Роджерса, что «провел две недели в аду»; весной 1907 года просил Роджерса выдать из его средств тысячу долларов Шарлотте «так, чтобы не узнала мисс Лайон». Слухи на самом деле ходили, газеты летом 1907-го писали о скорой свадьбе Твена и Теллер. Были и другие соперницы. В ту пору Твен ходил в театр чуть не каждый вечер — а чем еще заняться? Летом в Дублине познакомился со звездой Этель Бэрримор, не пропускал ни одного ее спектакля, засиживался в ее гримерке, они показывались вдвоем на публике. «Солт-Лейк-Сити геральд» (о благотворительном вечере в мае 1907 года): «Они так глядят в глаза друг другу, как если бы на Земле, кроме них, не было ни одного человека». Флирт был также с актрисами Маргарет Иллингтон, Мод Адаме и Билли Бурк; последняя вспоминала: «Всегда было захватывающе приятно видеть его. Он встряхивал роскошной гривой белоснежных волос, и склонял свою голову к моей, и говорил: «Билли, мы, рыжие, должны держаться вместе»». А еще была секретарша Роджерса Кэтрин Харрисон, была невестка Роджерса Мэри, которую Твен просил редактировать свои работы, «взять над ним шефство», называл «племянницей», писал ей: «О, Вы — удивительное сочетание ртути, гейзеров и солнечного света… Вы освещаете мое одиночество, делаете мою жизнь выносимой!» Через Мэри подружился с ее подругой Марджори Клинтон — с ней тоже вел нежную переписку. Всех не сочтешь…
26 апреля 1907 года в Норфолке открылась Всемирная выставка-ярмарка, приехали президент и разные знаменитости;
Твен прибыл с Роджерсом на «Канахе», газеты сообщали, что их появление вызвало такой ажиотаж, что несколько яхт едва не столкнулись; отдельные пассажиры, пытаясь разглядеть Короля, падали за борт. По окончании торжеств был туман, «Канаха» долго не могла отплыть — газеты писали, что Марк Твен пропал в море и погиб. В начале лета сообщили, что Оксфордский университет присудил ему почетную степень и просит приехать. «Новая ученая степень доставляет мне каждый раз такое же наслаждение, как индейцу свежесодранный скальп. <…> Когда Йель преподнес мне степень бакалавра искусств, я был в восторге, поскольку ничего не смыслю в искусстве. Когда тот же Йель избрал меня доктором литературы, моя радость не имела границ: единственная литература, которую я решаюсь лечить, — та, что я сам сочиняю; да и она бы давно окочурилась, если бы не заботы моей жены. Я возликовал еще раз, когда Миссурийский университет сделал меня доктором законоведения. Чистейшая прибыль! О законах я знаю только, как их обходить, чтобы не попасть на скамью подсудимых. Сейчас в Оксфорде меня произведут в доктора изящной словесности. Снова прибыток — потому что если бы я перевел в наличные все, чего я не знаю об изящной словесности, я сразу вышел бы в первые ряды миллионеров».