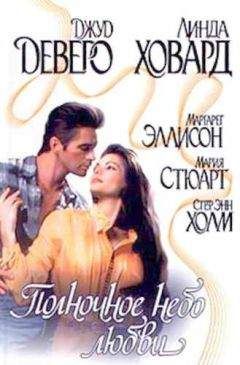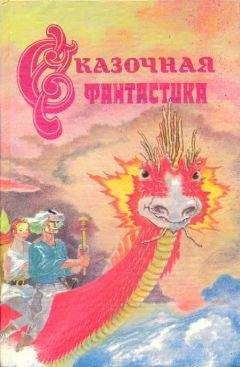Захар Прилепин - Леонид Леонов. "Игра его была огромна"
Но «Барсуки» вышли на два года раньше первого тома «Тихого Дона», и в леоновском романе есть места, которые убеждают нас в том, что Шолохов тогда прочёл его очень внимательно.
Леонов, как и чуть позже Шолохов, делает главным героем не большевика, а мятущегося, сильного, страстного человека, которого то течение подхватывает, то он сам поперёк течения идёт, без видимого смысла, от одной душевной, неизбывной муки.
Созвучны любовные коллизии в «Барсуках» и «Тихом Доне». Леонов, а затем Шолохов без прикрас дают взаимоотношения меж мужчиной и женщиной, рождённых и живущих «на земле», в сельских местах, не важно, в деревне или на хуторе. Надо сказать, что до тех пор русская литература куда чаще обращала внимание на любовные трагедии в среде бар или мещанства.
Когда Леонов описывает, как Егор Брыкин бил изменившую ему жену Анну, он даёт замечательно точную психологическую ремарку: «…сидела в нём уверенность, что наложением рук на повинную голову как бы прощает он Анну и отпускает ей многие её грехи. Анна приняла побои молча, лежала так, словно не хотела видеть себя возле суетившегося чуть не до обморока мужа».
В этом леоновском абзаце уже заложен рисунок взаимоотношений Аксиньи и Степана Астахова. И в будто безучастной реакции Анны угадывается будущая, презирающая мужа Аксинья, и в поведении Брыкина, желающего вернуть свою женщину, после собственного зверского к ней отношения, видится Степан.
Описанная Леоновым «барсучья» жизнь людей, ушедших из-под новой власти и не пришедших ни к какой, тоже содержит прообраз будущих мытарств Григория Мелехова, например, его жизни на острове в банде Фомина.
Сравните саму атмосферу. Вот Леонов:
«Опять заступила место тишина, земляная, самая тихая.
— Эха, бычатинки бы, — вздохнул Петька Ад, сидевший с вытянутыми ногами на полу, и коротко зевнул. — Пострелять бы… долгоухого видал даве.
— Из пальца не выстрелишь… — осадил и этого Гарасим, — а патронов я тебе не дам.
Опять потекли минуты скучного, зевотного молчания».
А вот Шолохов:
«Фомин и его соратники каждый по-своему убивали время: хозяйственный Стерлядников, примостив поудобнее хромую ногу, с утра до ночи чинил одежду и обувь, тщательно чистил оружие; Капарин, которому не впрок пошли ночёвки на сырой земле, целыми днями лежал на солнце, укрывшись с головой полушубком, глухо покашливая; Фомин и Чумаков без устали играли в самодельные, вырезанные из бумаги карты; Григорий бродил по острову, подолгу просиживал возле воды. Они мало разговаривали между собой, — всё было давно переговорено, — и собирались вместе только во время еды да вечерами, ожидая, когда приедет брат Фомина. Скука одолевала их…»
Характерно, что и у Леонова, и у Шолохова со скуки окопавшиеся «повстанцы» начинают петь. Только у Шолохова от песни на минуту развеселятся и затем снова впадут в скуку, а у Леонова один из героев сразу скажет пытающемуся играть на гармони: «Брось ты… нехорошо у тебя выходит».
Но самое главное, что ни Леонов, ни Шолохов, описав кровавое, беспутное, страшное брожение народа, так и не дают к финалу осознать читателю, кто тут является носителем хоть какой-нибудь правды.
И финал обоих романов тоже созвучен: герои «Барсуков» смотрят на ночной месяц, а Григорий Мелехов на ледяное солнце.
При желании можно говорить о некотором сходстве тематики опубликованной в 1930 году «Соти» и появившегося спустя два года первого тома «Поднятой целины». Или о стилистическом созвучии «Взятия Великошумска» и романа «Они сражались за Родину». Но, как нам кажется, эти сравнения не имеют под собой столь основательной почвы. С середины 1920-х писатели идут слишком разными путями.
Шолохов был пожизненно связан с Донской землёю, и это одно из самых очевидных объяснений, почему в конце жизни он замолчал. А потому, что описал все трагедии, случившиеся на той земле, где жил: уход казаков на Первую мировую, затем Гражданскую, коллективизацию, Отечественную. А после Отечественной того Тихого Дона, что взрастил Шолохова, уже не стало. О чём же ещё писать?
В этом смысле для Леонова подобных ограничений не было: своих героев он мог поместить почти в любой раствор, в любую среду, в любую природу.
* * *Если в середине 1920-х по литературному статусу и известности Леонов превосходил Шолохова, то в конце 1920-х — самом начале 1930-х в глазах читающей публики, критики и даже власти они сравнялись.
В 1932 году писатели однажды виделись у Горького именно в таком составе: Алексей Максимович, Иосиф Виссарионович, несколько человек из ближайшего окружения Сталина, Шолохов, Леонов.
Как две главные величины молодой советской литературы воспринимались они тогда не только внутри страны, но и за её пределами. Мы уже вспоминали Георгия Адамовича, который ставил Леонова выше Шолохова. О том же в 1928 году писал замечательный писатель и публицист Константин Чхеидзе в пражской газете «Казачий сполох», утверждая, что «из современных Шолохову советских писателей превосходит его Леонид Леонов», — притом что, по мнению Чхеидзе, уступает Шолохову даже Максим Горький.
Но уже к середине 1930-х Леонов в разговорах серчал и жаловался: «Что бы я ни написал — всё равно критика скажет, что Шолохов и Фадеев лучше!»
Так и было.
Два ещё не оконченных романа Шолохова воспринимались как символы величия молодой Страны Советов; он был предметом национальной гордости, наряду с челюскинцами и лётчиком Чкаловым. Леонова после публикации романа «Скутаревский» подобным образом никто не воспринимал. В то время, как ладный и красивый Шолохов смотрел со страниц правительственной прессы, Леонов в течение чуть ли не десятилетия наблюдал карикатуры на себя.
Леонид Максимович потом ещё долго сердился на Шолохова, говоря знакомым и в шестидесятые годы, и в семидесятые, что-де, когда его критики топтали, а ЦК выписывал постановления о клеветнической пьесе «Метель», достопочтимый Михаил Александрович на охоту ездил.
Вполне такое могло быть. А что должен был Шолохов предпринять?
Тем более что ситуацию эту Леонов видел ретроспективно, из того времени, когда они оба стали патриархами советской литературы и когда их фамилии в литературных святцах начали писать через запятую.
Сами взаимоотношения их отчасти схожи со взаимоотношениями Толстого и Достоевского, так же не нашедших за несколько десятилетий времени, чтобы всерьёз поговорить.
Единственные соразмерные им в XX веке величины — Шолохов и Леонов — продолжавшие к тому же первый — толстовскую линию, второй — с оговорками и даже полемикой — Достоевскую, — виделись считаное количество раз.