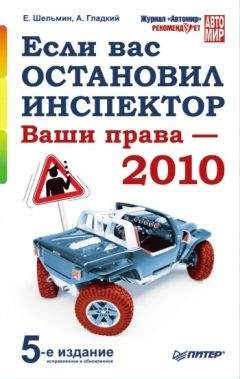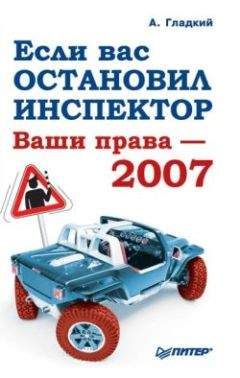Алексей Песков - Павел I
3) Проекты двух манифестов на случай вступления великого князя Павла на престол с исчислением «зловредностей, окоренившихся в обществе нашем», и главных способов их обустройства: объявлением фундаментальных законов и порядка престолонаследия.
4) Два письма от генерала графа Петра Ивановича Панина к великому князю Павлу с изъяснением причин, побудивших к сочинению конституции и манифестов (позорное угрызение сердец при воспоминаниях о том, как преступно и беззаконно были низвергнуты младенец Иван и Петр Третий; искреннейшая верность и всеподданническая любовь к наследнику престола).
Письма, манифесты, введение и конспект конституции были предназначены для вручения Павлу в будущем – когда он станет царем – «хотя уже и по смерти моей»; ныне же «не дерзнул я осмелиться поднести Вам сочинения <…> – Известны, по несчастию, ужасные примеры в Отечестве нашем над целыми родами сынов его за одни только рассуждения противу деспотизма, <да> и собственная Вашего Величества безопасность <…> еще в подвластном положении» (Шумигорский 1907. Приложения. С. 1—35). 1 октября 1784 г. П. И. Панин запечатал эти бумаги для вручения их в будущем Павлу. В 1789 г. он умер; в 1792 г. умер Фонвизин. «Бумаги таких персон, как Панин, после смерти обычно просматривал специальный секретный чиновник <…>. Денис Фонвизин успел припрятать наиболее важные, опасные документы, и они не достались Екатерине. Автор „Недоросля“ сохранил по меньшей мере два списка крамольного „Рассуждения“: один у себя, а другой <…> в семье верного человека, петербургского губернского прокурора Пузыревского <…>. Наступит день, когда на престоле окажется Павел <…>. Родственники Фонвизина, видно, не торопились представиться Павлу и в течение всего его царствования благоразумно сохраняли у себя подлинную рукопись Введения к конституции. – Вдова губернского прокурора Пузыревского подносит ему пакет конспиративных сочинений Фонвизина – Паниных <…>. Подробности эпизода нам неизвестны, но после этого Пузыревская получила пенсию, Никите Ивановичу велено было соорудить памятник. И более ничего <…>» (Эйдельман 1991. С. 92–93).
112
Граф А. К. Разумовский будет благополучнее всех – отправится посланником в дальние страны и переживет всех: он скончается в 1836 году. Следует заметить, однако, что, несмотря на красоту, он был человек неглупый и дельный.
113
Форма обращения Екатерины к сыну – Вы – не должна вызывать подозрений в холодной отстраненности этих фраз: это перевод с французского, а когда Екатерина разговаривала с сыном по-французски, она руководствовалась правилами речевого этикета, принятого тогда в этом языке; когда она говорила по-русски, говорила ты: ты, батюшка и т. п. (см. в записках Порошина 31 окт. 1765).
114
Когда в январе 1788 г. Екатерина категорически велела Павлу отложить свой отъезд в турецкую армию до майских родов Марии Федоровны, он, пытаясь ей возразить, сказал, что в Европе уже знают о его сборах, на что Екатерина отвечала: «Касательно предлагаемого мне вами вопроса, на кого вы похожи в глазах Европы? – отвечать нетрудно. Вы будете похожи на человека, подчинившегося моей воле» (Екатерина – Павлу 18 января 1788 // РС. 1873. № 8. С. 866).
115
«Гамлет» в переделке А. П. Сумарокова был впервые поставлен в Петербурге в 1750 г., а в последний раз в Москве в 1760 г. Но это еще не означает, что «Гамлета» не ставили именно из-за возможных политических аллюзий. Шекспир вообще на русской сцене XVIII века был представлен ущербно: Екатерина написала подражание «Виндзорским проказницам» – комедию «Вот каково иметь корзину и белье» (постановки в Петербурге и в Москве в 1786—88 гг.); Екатерина же назвала свое историческое представление «Начальное управление Олега» «подражанием Шекеспиру» (постановки в Петербурге в 1790—95 гг.), и в 1795–1800 гг. в Москве было несколько представлений «Ромео и Юлии» (перевод А. Ф. Малиновским французской переделки трагедии Шекспира, выполненной Л. С. Мерсье) (Ельницкая. Т. 1. С. 443, 442, 453, 462). – Вот и все. Что же касается «Гамлета», то его не торопились ставить и в новом, XIX веке. Первая постановка в новом столетии – это переделка трагедии Шекспира С. И. Висковатовым в 1810 г. (Ельницкая. Т. 2. С. 464).
116
Во французском оригинале: altier, haut, violent.
117
Бибиков умрет в Астрахани через два года – в 1784 г.
118
Во французском тексте мемуаров баронессы Оберкирх, откуда и заимствован весь рассказ Павла о встрече с призраком Петра I, разговор между прадедом и правнуком записан так: «Paul, pauvre Paul, pauvre prince! <…> Pauvre Paul! Qui je suis? Je suis celui qui s’intØresse а` toi. Ce que je veux? Je veux que tu ne t’attaches pas trop а` ce monde, car tu n’y resteras pas longtemps. Vis en juste, si tu dØsires mourir en paix et ne mØprise pas le remords, c’est le supplice le plus poignant des grandes mes». – Баронесса Оберкирх была одной из слушательниц Павла в тот брюссельский вечер.
119
Обелиск «Конетабль» <ConnØtable> «построен крестьянином Архангельской волости, деревни Яичницы, Кирьяком Пластиным за 10.000 руб. ассигнациями, по контракту 1792 г. Высота с медным вверху шаром 15 саж. 1 арш. 13 вершков <…>. В 1886 году был весь разрушен ударом молнии и восстановлен в прежнем виде инж. Николя <…>. Д. Ф. Кобеко (с. 293) высказал предположение, что название „Конетабль“ дано в подражание памятнику конетабля Монморанси в Шантильи и что ограда, окружающая обелиск, есть счастливое подражание той ограде, которая окружала вышеупомянутый памятник. И это правдоподобно, так как у цесаревича и его супруги, путешествовавших по Европе в 1781 г. под именем графов Северных, остались самые лучшие воспоминания от Шантильи, где принц Конде устроил им великолепный прием» (Лансере. С. 61).
120
«В каждое воскресенье и большой праздник был выход ее величества в придворную церковь; все, как должностные, так и праздные, собирались в те дни во дворце; те, которые имели вход в тронную залу, ожидали ее величества там; имеющие вход в кавалергардскую залу, в сей зале – и тут более всех толпились; а прочие собирались в зале, где стояли на часах уборные гвардии сержанты. Военные должны были быть в мундирах и шарфах, статские – во французских кафтанах или губернских мундирах и башмаках; все должны были быть причесаны с буклями и с пудрою; обер-гофмаршал и гофмаршалы заранее, до выхода императрицы, ходили по кавалергардской зале и, ежели усматривали кого неприлично одетым, то просили такового вежливо выйти. За несколько времени наследник, великий князь с великою княгинею из своей половины переходили во внутренние комнаты государыни, которая в половине одиннадцатого часа выходила в тронную, где чужестранные министры, знатные чиновники и придворные ее ожидали. Там представлялись приезжие или по иным каким причинам имеющие вход за кавалергардов; там она удостаивала со многими разговаривать. В одиннадцать часов отворялись двери; первый выходил обер-гофмаршал с жезлом, за ним пажи, камер-пажи, камер-юнкеры, камергеры и кавалеры, по два в ряд; пред самою императрицею светлейший князь. Государыня всегда имела милый, привлекательный и веселый, небесный взгляд. Ежели были приезжие или отъезжающие, или благодарить ее за какую милость, но не имеющие входа в тронную, то представляемы были тут обер-камергером, и государыня жаловала целовать им ручку; за императрицею шел великий князь рядом с великою княгинею; за ними статс-дамы, камер-фрейлины и фрейлины по две в ряд. Тем же порядком государыня возвращалась во внутренние комнаты. Императрица кушала в час. Ежели кто хотел быть представлен великому князю и великой княгине, то представлялся на их половине в день, когда их высочества сами назначат. – Каждое воскресенье был при дворе бал или куртаг. На бал императрица выходила в таком же порядке, как и в церковь; перед залою представлялись дамы и целовали ее ручку. Бал всегда открывал великий князь с великою княгинею менуэтом; после них танцевали придворные и гвардии офицеры; из армейских ниже полковников не имели позволения; танцы продолжались: менуэты, польские и контрдансы. Дамы должны были быть в русских платьях, то есть особливого покроя парадных платьях, а для уменьшения роскоши был род женских мундиров по цветам, назначенным для губерний. Кавалеры все должны быть в башмаках; все дворянство имело право быть на оных балах, не исключая унтер-офицеров гвардии, только в дворянских мундирах. – Императрица игрывала в карты с чужестранными министрами или кому прикажет; для чего карты подавали тем по назначению камер-пажи; великий князь тоже играл за особливым столиком. Часа через два музыка переставала играть; государыня откланивалась и тем же порядком отходила во внутренние комнаты. После нее спешили все разъезжаться. – В новый год и еще до великого поста бывало несколько придворных маскарадов. Всякий имел право получить билет для входа в придворной конторе. Купечество имело свою залу, но обе залы имели между собою сообщение, и не запрещалось переходить из одной в другую. По желанию, могли быть в масках, но все должны были быть в маскарадных платьях: доминах, венецианах, капуцинах и проч. Императрица сама выходила маскированная, одна без свиты. В буфетах было всякого рода прохладительное питье и чай; ужин был только по приглашению обер-гофмаршала, человек на сорок в кавалерской зале. Гвардии офицер наряжался для принятия билетов; ежели кто приезжал в маске, должен был пред офицером маску снимать. Кто первый приезжал и кто последний уезжал, подавали государыне записку; она была любопытна знать весельчаков. Как балы, так и маскарады начинались в шесть часов, а маскарад оканчивался за полночь. – Один раз в неделю было собрание в эрмитаже, где иногда бывал и спектакль; туда приглашаемы были люди только известные; всякая церемония была изгнана; императрица, забыв, так сказать, свое величество, обходилась со всеми просто; были сделаны правила против этикета; кто забывал их, то должен был в наказание прочесть несколько стихов из „Телемахиды“, поэмы старинного сочинения Тредьяковского. – У великого князя по понедельникам были балы, а по субботам на Каменном острове, по особому его приглашению лично каждого чрез придворного его половины лакея; а сверх того наряжались по два гвардии офицера от каждого полка» (Энгельгардт. С. 237–239).