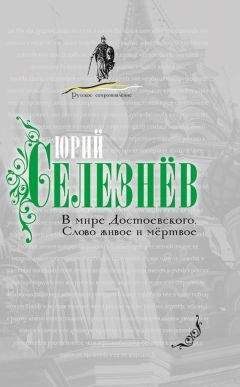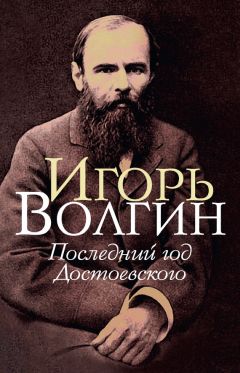Юрий Селезнев - Достоевский
«— Это было раненное в самом начале жизни сердце, — начал он, — и эта-то никогда не заживавшая рана его и была началом и источником всей страстной, страдальческой поэзии его на всю потом жизнь...
Некрасов заключил собою ряд тех поэтов, которые приходили со своим «новым словом»... В этом смысле он... должен прямо стоять вслед за Пушкиным и Лермонтовым...»
— «Выше, выше их», — выкрикнули из толпы44.
«— Не выше и не ниже, а вслед, — повторил Достоевский. — Сердцем своим, великим поэтическим вдохновением своим он неудержимо примыкал, в иных великих стихотворениях своих, к самой сути народной. В этом смысле это был народный поэт...»
Газеты и журналы, откликнувшиеся на смерть поэта, немало писали в те дни — чрезвычайно своевременно, конечно! — о темных сторонах его личности — «стремлении к наживе», «двойничестве», «практичности...».
«Поэт сам не побоялся рассказать нам в своих покаянных стихах о таких делах, от которых мы бы и не поморщились, если б совершили их сами, — вступился за честь поэта Достоевский в своем «Дневнике». — И что бы ни говорили теперь о нем, какие бы грехи ни приписывали ему — есть свидетель в пользу Некрасова. Этот свидетель — народ: для чего бы «практическому» человеку так увлекаться любовью к народу!.. Стремление его к народу столь высоко, что ставит его, как поэта, на высшее место. Что же до человека, до гражданина, то опять-таки любовью к народу и страданием по нем он оправдал себя сам и многое искупил, если и действительно было что искупить...»
3. Кесарю — кесарево
Еще прошлой осенью, в 78-м, решил засесть надолго за новый роман, даже объявил уже о временном прекращении выпусков «Дневника писателя», в связи с чем получал и до сих пор огорчительные письма — читатели привыкли к этой форме постоянной беседы с Достоевским, но время его теперь сжималось, а замыслы, которые непременно нужно осуществить, потребуют еще по меньшей мере лет 10 жизни. Замыслы, как всегда, теснились в голове, спорили и пока еще не могли отыскать для себя примиряющую точку сопряжения. Давно мечталось написать поэму о Христе, фантастическую, вроде «Сна смешного человека», поэму-притчу, образ и символ современного состояния мира, вобравшего в себя всю суть предшествующих тысячелетий человеческого бытия и чреватого будущим, уже зарождающимся в недрах настоящего. Может быть, взять за основу рассказ об искушениях Спасителя в пустыне? Или давно встревоживший его и теперь неотступно являющийся ему образ встречи Христа с Великим инквизитором? Но, как и прежде, вмешивались современные сюжеты, те, что ежедневно подсказывала текущая действительность. Все не давала покоя история с невинно осужденным на каторгу Ильинским. Однако просился на бумагу и роман о молодом, юном даже человеке, с чистым, как у Мышкина, сердцем (он пока и именовал его для себя «идиотом»), но душа которого уже прикоснулась к мерзостям жизни.
Он понимал: такого героя, конечно, нельзя ввести в роман сразу, с готовой, выстраданной уже идеей, как Раскольникова или даже Мышкина, — тут нужно будет показать сам путь вызревания идеи, рождения нового человека, способного воплотить собой идею искупления. Нужно в. конце концов и наглядно показать, что же требует искупления. То есть как ни крути, а потребуется еще и как бы предваряющий роман, роман о хождении юной чистой души по мытарствам, роман искушений, за которым и последует уже роман искупления...
В самом начале 79-го нежданно явился к нему Дмитрий Сергеевич Арсеньев, воспитатель великих князей Сергея и Павла, младших сыновей императора Александра II, пришел от его имени просить Федора Михайловича найти время для встречи с детьми государя, чтобы своими беседами благотворно воздействовать на их юные сердца.
О многом заставило задуматься Достоевского это предложение... В последнее время он, конечно, не мог не замечать, насколько возрос и укрепился его авторитет в обществе, особенно благодаря «Дневнику». В конце 77-го его избрали в члены-корреспонденты Академии наук (Толстой, Тургенев, Гончаров, Островский, Майков, Алексей Константинович Толстой ранее удостоились этого почетного звания). Да и государю не одного из друзей-литераторов уже представляли, даже и Яков Петрович Полонский удостоился чести. Но не хотел бы Достоевский оказаться в его положении. Пришлось бедняге представляться, напялив на себя генеральский мундир.
— Позвольте узнать вашу фамилию, — обратился к Полонскому, представляемому в числе большой группы других, император.
Полонский только пожимал плечами, пока наконец вымолвил:
— Извините, ваше величество, запамятовал: вертится, — он указал на свой лоб, — а вот не припомню, хоть убейте... — потом, обратившись к церемониймейстеру: — Доложите, пожалуйста, его величеству, как меня зовут.
— Известный поэт Яков Петрович Полонский, ваше величество!
— Очень приятно, — милостиво улыбнулся царь, должно быть, все-таки догадавшись, что с ним разыграна шутка в отместку за то, что он не узнал поэта в лицо, — как же: с детства читал вас. Не окажете ли честь позавтракать с нами?
Но Яков Петрович уже вошел в роль:
— Покорно благодарю, ваше величество, я только что позавтракал.
— Ну, как вам угодно...
— Экая ты телятина, — возмутился Аполлон Майков, узнав об этом диалоге.
— Что делать, — ответил ему Полонский с простодушной хитринкой, — я вообще глуп.
Яков Петрович, правда, считал глупость немалым достоинством... для поэта.
Но Достоевский притворяться глупым и захотел бы, так не сумел. Это, однако, не избавляло его от участи столько раз попадать в преглупейшее положение, что надолго погружало его в состояние болезненной мнительности.
Но одно дело видеть ухмыляющегося чиновника, когда Федор Михайлович как-то забыл, как зовут жену, — документы на выезд за границу оформляли:
— Аня, как тебя зовут? — заорал он тогда неожиданно для самого себя, рассердившись не на шутку на себя же,— но оказаться по прихоти памяти, нередко подводившей его после тяжелых приступов эпилепсии, шутом в глазах придворной аристократической челяди — увольте. Но и отказаться от приглашения не мог. И вовсе не потому, что побоялся вызвать неудовольствие его императорского высочества. Нет, тут другое...
Когда-то, в первых, полудетских еще робко-затаенных мечтах своих, он уже видел себя равным всем «царям земным»: сам «бывал» и Шиллером, и Наполеоном, и Магометом, и кем только не был он тогда. Потом мечтал о поприще русского писателя — может быть, самом высоком и самом страдательном из всех поприщ, но... угодил в военно-инженерное училище; только успев совершить первый шаг в литературе, возмечтал сделаться чуть не освободителем Отечества и... отправился в каторгу. От «постигнуть Бога» — на меньшее не согласился бы — и до «только бы выжить»; от надежд на простое человеческое счастье и до истины, постигаемой в страдании; от проклятой рулетки до ощущения своей способности перевернуть, переродить мир словом; от невозможности понять, что творится с собственной душой его, что ждет его завтра, через час, до предчувствий разгадки сокровеннейших тайн будущего, человеческого бытия, бытия целой вселенной. Отчаяние неверия и жгучая жажда веры... Все это было. Теперь ему хотелось одного — быть услышанным. Потому что чувствовал — теперь ему есть что сказать. Пусть, как и в давней юности своей, он все так же беззащитен от превратностей судьбы, но и ничто уже, никакие угрозы или посулы не способны изменить его. И если бы даже случилось так, что его голос оказался бы гласом вопиющего в пустыне, если бы он точно знал, что никто никогда уже не услышит его, и он — последний из вопиющих, а мир давно уже слеп и глух, и горд своей слепотой, — он все равно не изменился бы и не прекратил верить и надеяться до самого смертного своего мгновения. Потому что смертно его тело, по слово — ему хотелось верить в это, — слово его переживет те времена и пространства всемирных потрясений, которые не то что предвиделись, но явно ощущались им. И пусть только там и тогда услышится его слово, все-таки коли услышится, то и отзовется...