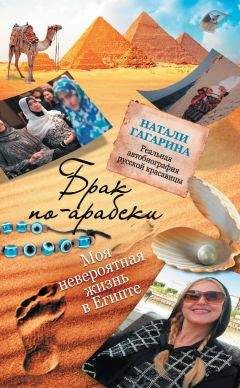Наталья Ильина - Дороги и судьбы
И прерывающимся голосом, почти сквозь слезы, добавил:
— Дура!
Вскочил, швырнул салфетку и выбежал из ресторана. Стало очень тихо,— видимо, на несколько секунд я просто оглохла. «Дурой» меня не называли (во всяком случае в лицо) много лет сряду, но не обиду я ощущала, а жалость и раскаянье. Не меня обидели. Обидела я. Но чем, чем именно? Кажется, тем, что назвала его «иностранцем», «зрителем», а он, бедный, едва не заплакал! Так обидела, что он, с его добротой, мягкостью, учтивостью, обругал меня и вот сейчас бегает там под дождем.
Выйдя из оцепенения, я убедилась, что никакой тишины не наступило,— говор, смех, звон посуды продолжались. Интересно, между прочим, как отнеслись окружающие к этой сцене? Огляделась. А никак не отнеслись. Никто и не смотрел в мою сторону. Вероятно, происшедшее было воспринято как супружеская ссора, да и как иначе такое воспринять? Супруги поругались, бывает, и никого, кроме них, это не касается. Бегали с подносами официантки, громко хохотала компания за соседним столом, и все равно было слышно, как шумит за окном дождь. Что ж мне теперь? Бежать за ним? Куда? Да и кто меня выпустит, ведь счет не оплачен. Господи, что он там делает, под проливным дождем? А вдруг ушел в гостиницу, бросив меня здесь?
И тут он появился, совершенно мокрый, вытирая лицо и руки платком, и сообщил голосом спокойным и деловитым, что надо попросить официантку вызвать такси, не пешком же идти в отель, на улице ливень... В ожидании такси мы, делая друг перед другом вид, что ровно ничего не произошло, обсуждали программу завтрашнего дня, когда встать, когда выехать, два-три часа на Верону, к вечеру Бергамо... Как я могла, пусть на минуту, усомниться в этом человеке, подумать, что он ушел, бросив меня здесь?
В тот вечер я дала себе слово никогда не вступать с ним в споры. Он хочет считать себя русским. Возвышающий обман ему дороже тьмы низких истин, и пусть. И пусть!
Слово свое я сдержала. Была кротка, как агнец, и те три дня, что нам еще оставалось вместе путешествовать, и во время встреч в Париже.
6
Почему Европа имеет на
нас, кто бы мы ни были,
такое сильное, волшебное,
призывное впечатление?
На другое утро мы мчались по автостраде, поливаемые сверху дождем, а с боков грязной водой из-под колес всевозможных видов транспорта, как обгоняемых, так и обгоняющих, и примерно к часу дня благополучно достигли Вероны. Там мы долго ползали по улицам, отыскивая место, где можно оставить машину, сквозь сетку дождя я разглядывала какие-то удивительные крепостные стены и мосты, что-то много там было мостов, и все мне не верилось, что я в Вероне, что этот город Ромео и Джульетты есть, существует, и я в нем... Наконец нашли стоянку на виа Понте Нуова...
Центр города, куда мы направили стопы, оказался довольно далеко от улицы Нового моста, но дождъ смилостивился, перестал, мы шагали через лужи, но хотя бы сверху не поливало, и, слегка поплутав, пройдя через какой-то прекрасный церковный двор, очутились на площади Данте. Была она замкнута со всех сторон старыми домами, а в нижних этажах кафе, рестораны, магазины, на самой же площади расставили свои лотки рыночные торговцы, торговавшие многим — фрукты, овощи, ткани, посуда... Надо всем этим — высоченная мраморная фигура Данте. Резко очерченное тонкогубое лицо, а на голове, вернее, на повязке, голову покрывающей (никогда не приходилось мне видеть портретов простоволосого Данте), сидели два голубя так неподвижно, что я приняла их за часть скульптуры, пока один из них не взмыл в небо. Не тут ли происходила вся эта суматоха с дуэлями, когда сторонники Монтекки обнажили шпаги против друзей и слуг Капулетти, не тут ли был смертельно ранен Меркуццио, из последних сил великолепно танцевавший,— незабываемая прокофьевская музыка, незабываемый танец! Балет Большого театра с Улановой и Коренем давно вытеснил из памяти моей шекспировский текст.
— Прежде всего надо поесть,— говорил мой друг.— И выпить! Вы очень промокли?
Я сказала, что не очень. Я солгала. По дороге на площадь, на что-то заглядевшись, ступила в глубокую лужу и промочила ноги, да так, что туфли мои при каждом шаге издавали чавкающие звуки. Но стоило бы мне в промоченных ногах сознаться, как мой спутник немедленно повлек бы меня в магазин покупать новые туфли. Можно было вернуться к машине, где наш багаж, переобуться, но я знала, что мой друг на это не согласится,— далеко, да и к чему мокрыми ногами отшагивать такое расстояние, не проще ли магазин? Он где-нибудь рядом. И в самом деле проще. И деньги на покупку у меня были, но я знала, что этот человек не позволит мне истратить ни лиры, во Флоренции я мигнуть не успела, как за платье было уплачено, это неловко в конце-то концов, вот я и промолчала.
В уютнейшем ресторане, где из окна второго этажа мы видели мраморные складки одежды на бедрах Данте, я отправилась в дамскую комнату, где, разувшись, вылила накопившуюся в туфлях воду. Вернувшись к нашему столику, застала моего друга чем-то очень довольного, выражение лица радостное и немного хитрое. На столе перед его и моим приборами стояли два небольших сосуда из непрозрачного матового стекла, похожие на аптекарские мензурки, однако с ручками, как у кувшинов. Сосуды были чем-то до краев наполнены.
— Ну-ка, догадайтесь, что это?
— Не знаю.
— Не знаете? — Торжествующе.— Лучшее на свете лекарство от простуды! — И еще более торжественно тоном конферансье, объявляющим имя знаменитости: — РУССКАЯ ВОДКА!
Я выразила восторг, которого от меня ждали, и мы чокнулись мензурками.
Старые кварталы городка Бергамо расположены на высоком холме (какой вид с него открывался!), мы туда въехали, когда солнце склонялось к западу, нас ждали два номера в старинном чудесном отеле «Золотой ягненок» (он и был изображен на потускневшей вывеске, сохранившейся, быть может, с прошлых веков), и можно было сразу принять горячий душ, переодеться, переобуться и побродить по улицам, где не было видно туристов, вокруг звучал итальянский напевный говор, и мы заходили в местный храм любоваться на плафоны, фрески и золотую мозаику, а позже, после ужина в «Ягненке», снова вышли уже в темноту, прохожие были редки, но везде группы молодежи (смех, звуки гитары), и, зайдя в очередной церковный двор, постояли там, любуясь на величественный черный силуэт колокольни, четко рисовавшийся на темно-лиловом небе.
Внезапно раздались густые и мерные удары колокола. Не знаю, почему он звонил (время было позднее), по ком он звонил, но он — звонил. «Вы помните Сан-Джиминьяно? Как там звонят колокола!» Харбин, детство, молодое лицо матери. Как бы она радовалась, что я побывала в ее любимой Италии! «То, что ты видела,— говорила мать,— это всегда с тобой, этого отнять у тебя никто не сможет». А ведь я много чего повидала за свою пеструю, сложную, трудную, а в общем — хорошую жизнь! Удивительные люди, люди, которым я всем обязана (кем бы я была без них?), встретились на моем пути. «И все они умерли, умерли...»