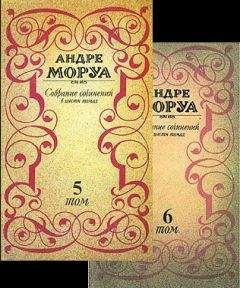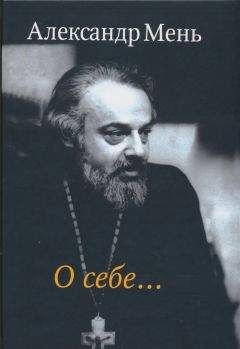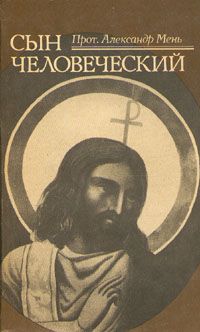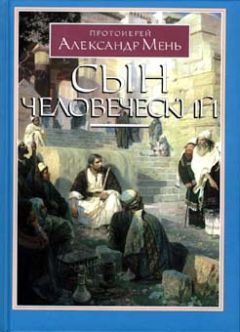Андрэ Моруа - Олимпио, или Жизнь Виктора Гюго
Мари, носившая глубокий траур, колебалась, не желая поддаться увлечению, но Олимпио был настойчив. "Только он один умел так обворожить женщину", - признавалась Мари тридцать лет спустя. Она не видела в этом ничего плохого, ребячливая, "трогательная в своем горе и одиночестве, с печальным взглядом в восемнадцать лет, со слезами, бежавшими под черной вуалью, словно жемчужины, по розовым ее щекам". Он "поклонялся тому, вспоминает Мари, - во что верили мы с мужем: Свободе, Справедливости, Республике..." Как некогда Жюльетте, он говорил ей о Боге, бессмертии, цветах, деревьях, о бесконечности и о любви. "Она ласкала его, восхищалась им, обожала, хотела иметь от него ребенка". Повинуясь ему, она купалась в реке Ур и нагая входила в воду перед своим старым, но вечно юным любовником. Столь же подвижный, как и она, он уводил ее на длительные прогулки, поднимался с нею на соседние горы. После всех этих галантных восхождений он возвращался в свой маленький домик и в одиночестве, стоя у конторки, писал "Грозный год", "Девяносто третий год", стихи для новой серии "Легенды веков", где в стихах о Магомете он говорил о себе:
Он созерцал нагих, прекрасных дев,
А после, очи к небесам воздев,
Шептал: "Земле - любовь, а небу - свет..."
[Виктор Гюго, "Ислам" ("Легенда веков")]
Трагические воспоминания Мари Мерсье побудили его написать замечательные стихотворения, мрачные и благородные, в которых с песней на устах, с гордым презрением молодые девушки идут умирать за свободу. Он неустанно повторял, что те, кого убивают, - это его братья, что он защищает сраженных, против которых боролся в пору их могущества; что жизненные конфликты разрешаются любовью, а не оружием.
Увы! Изгнанник снова потрясен,
Еще не кончился кошмарный сон:
Глубокий ров, команда в тишине,
Толпа несчастных лепится к стене,
И грохнул залп - кого, за что казнят?
Да без разбору, все и всех подряд...
Давай, давай, пали, стреляй скорей
В бандитов и калек, в детей и матерей!
Пусть на щеке слеза еще тепла,
Но известь всех сожрет, сожжет дотла!
[Виктор Гюго, "В Виандене" ("Грозный год")]
Он сделал для себя выбор между соображениями "государственной пользы", угодливой, как публичная женщина, и милосердием. Разве в этой "пользе" была хоть крупица истинной пользы? Служила ли она государственным интересам? Чтобы высмеять эти интересы, он воспользовался интонацией "Возмездия", его жестокой иронией:
О братство! Ты - химера из химер!
Америка Европе не пример...
Мечтать о царстве света и ума
Глупей, чем строить снежные дома!..
[Виктор Гюго, "Июнь, II" ("Грозный год")]
То были два необычайно плодовитых месяца. Победа над молодой женщиной подхлестывала его поэтический дар. Попадались на его пути и другие приключения, и он мимоходом срывал поцелуи. В конце своего пребывания в этом краю он направился в Тионвиль посмотреть на город, который когда-то защищал и прославил его отец, затем он остановился на некоторое время в Алтвизе, где встретил Мари Мерсье, устроившуюся (с его помощью) работать модисткой. Записные книжки Гюго пестрят заметками о триумфах. 3 сентября 1871 года: "Мария... parece amorosa. - 11 сентября: Quiero que esta me haga uno nino. - 12 сентября: Ahora, todas los dias y a toda hora, misma Maria. - 22 сентября: Misma - toda..." [...кажется, влюблена... Хочу, чтобы она родила мне ребенка. Теперь все дни в любой час все та же Мари... Все та же всецело моя (исп.)].
Испанский язык в этих записях должен был охранять любовные тайны от пытливой ревности Жюльетты.
Первого октября он прибыл в Париж. Каков будет прием? В обществе драматических писателей Ксавье де Монтепен потребовал его исключения, как защитника секты убийц. Ксавье де Монтепен был автором романов, печатавшихся в газетах с продолжением, и мелодрам, ему принадлежит знаменательный афоризм: "Свобода совести - понятие, лишенное смысла".
Записная книжка Виктора Гюго, 5 сентября 1871 года:
"Год тому назад я возвратился в Париж. Какой был тогда восторженный прием! И какое отношение ко мне теперь! А что я такого сделал? Просто выполнил свой долг..."
16 сентября 1871 года:
"Получил телеграмму от Мериса. Он снял нам квартиру на год, улица Ларошфуко, 66..."
Возвращение было довольно драматичным. Совершая вместе с Жюльеттой прогулку в экипаже, он увидел разрушенные дворец Тюильри и ратушу. Его просили вступиться за Рошфора. Без особой надежды он попросил свидания у Тьера: "Теперь я ничто". В Версаль он поехал поездом. В вагоне какой-то мужчина в модных желтых перчатках, узнав Гюго, бросал на него яростные взгляды. В префектуре его провели в салон, обитый шелком малинового цвета. Вошел Тьер. Прием оказался более сердечным, чем ожидал Гюго. "Между нами существует расхождение во взглядах, - сказал Гюго, - которое сознаем и вы и я, но в вопросах совести мы можем сойтись".
Было условлено, что Рошфора не отправят в ссылку, что ему будут беспрепятственно давать свидания с детьми и разрешат писать. Гюго настаивал на амнистии и требовал, чтобы больше не было слепого подчинения военным. Тьер признался в своем бессилии: "Я весьма ничтожный диктатор в черном сюртуке... Я, так же как и вы, побежденный, носящий маску победителя; на меня сыплется град проклятий, так же как и на вас..." На обратном пути какая-то молодая женщина, находившаяся в вагоне, показывая мужу заметку в газете, сказала:
- Виктор Гюго - герой.
- Тише, - шепнул муж, - он ведь здесь.
Она взяла со скамейки шляпу поэта и коснулась губами траурной ленты. Затем она сказала:
- Вы много выстрадали, сударь! Продолжайте защищать побежденных.
Он поцеловал ей руку.
На следующий день он отправился к Рошфору. "Без вас я бы погиб", сказал узник. В последовавшие дни Гюго хотел осмотреть свой Париж. Почти все дома, где он когда-то жил, оказались разрушенными. В газете "Раппель", с которой наконец было снято запрещение, он в первом же номере опубликовал "Обращение к редакторам газеты":
"В переживаемый нами момент необходимо сделать одно, только одно. Что именно? Возродить Франции. Возродить Францию ради кого? Ради самой Франции? Нет. Ради всего человечества. Угасший светильник никто не зажигает вновь ради самого светильника. Светильник зажигают также и для того, кто его погасил и при этом ослепил себя; Францию нужно возродить и ради Германии. Да, ради Германии. Ибо Германия - раб, и Франция возвратит ей свободу..."
Этот номер газеты раздавался бесплатно. Гюго дорожил вниманием преданных ему читателей, но его ненавидела знать. Отвергая его политические взгляды, монархистские и бонапартистские салоны единодушно чернили его гений. В салоне принцессы Матильды (изгнание которой длилось всего два года), когда на него нападали, лишь один Теофиль Готье защищал его: "О, что бы вы ни говорили, Гюго, поэт туманов, туч, моря, поэт неуловимых очертаний, по-прежнему велик!" Но поэт туманов совершил преступление, ибо стал также поэтом бедноты.