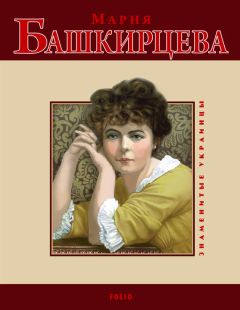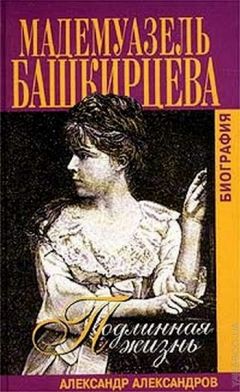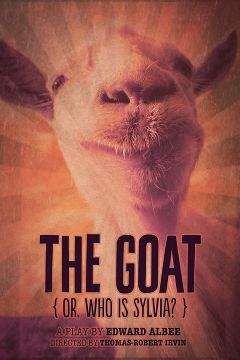Мария Башкирцева - Дневник Марии Башкирцевой
— Ну, так это доказывает, что вы чувствуете какие-нибудь недостатки и что можете пойти дальше этого…
Весьма верно.
Воскресенье, 11 ноября. Обещали сегодня в Жуй. Мне право кажется, что я люблю этих людей. Они интеллигентны и милы. Я нахожу почти удовольствие в свидании с ними.
Быстрая перемена декораций; все мне улыбается, все кажется спокойным и прекрасным. Я знаю, что хочу сделать, и все идет как по маслу.
Понедельник, 12 ноября. Друмон, участник Liberté, был у нас сегодня. Он терпеть не может жанр того характера, над которым я работаю, но расточает мне комплименты, с изумлением спрашивая меня в тоже время, каким образом я, окруженная роскошью и изяществом, могу любить безобразное. Он находит, что мои мальчики — безобразны.
— Почему бы вам не выбрать красивых детей, это было бы премило?
— Я выбрала выразительных. Да и где вы встретите между уличными ребятишками каких-нибудь писаных красавцев! Для этого нужно было бы отправиться в Елисейские поля, да и списывать там себе несчастных маленьких болванчиков, заверченных в ленты и окруженных гувернантками!.. Только где же тут движение? Где естественность, свобода, непосредственность? Где настоящая выразительность? В хорошо воспитанных детях проявляется уже рисовка.
И потом… словом, я права.
Суббота, 17 ноября. Жуй. Деревня заставляет с особенной силой чувствовать красоту картин Бастьена-Лепажа… Парижане не могут достаточно оценить его, но если бы только они взглянули на деревенскую природу, такую величественную, простую, поэтическую…
Каждая травка, деревья, земля, взгляд проходящих женщин, позы детей, походка стариков, цвет их одежды — все гармонирует с пейзажем.
Жуй всегда заставляет меня браться за перо. Всякий раз я привожу оттуда исписанные листки. Когда же соберу я из них целую книгу?
Четверг, 22 ноября. Всемирная Иллюстрация (русская) напечатала на первой странице снимок с моей картины «Жан и Жак». Это самый большой из иллюстрированных русских журналов, и я в нем разместилась как дома!.. Но это вовсе не доставляет мне особенной радости. Почему? Мне это приятно, но радости это мне не доставляет. Да почему же?
Потому что этого недостаточно для моего честолюбия. Вот если бы два года тому назад я получила почетный отзыв, я бы того и гляди упала в обморок! Если бы в прошлом году мне дали медаль, я разревелась бы, уткнувшись носом в жилетку Жулиана!.. Но теперь…
События — увы! логичны. Все связано, сцеплено между собой, одно вытекает из другого, все подготавливается мало-помалу… А для того, чтобы радость чувствовалась очень сильно, она должна быть неожиданной, представлять из себя нечто вроде сюрприза.
Впрочем, тут дело не в самой медали, а в сопровождающем ее успехе со стороны публики.
Среда, 28 ноября. Вчерашняя барышня, перелистывая мои альбомы, заставила меня наткнуться на старый набросок: убийство Цезаря. И это вновь захватило меня за душу… Я бросаюсь к Плутарху и Светонию. Монтескье обожает описание этого убийства у Плутарха. Да, это настоящий академик. Все у него расставлено в порядке, все красноречиво, тогда как Светоний заставляет вас содрогаться: это какой-то судейский протокол, от которого мороз подирает по спине… Каким удивительным обаянием обладают великие люди, если по прошествии многих лет их жизнь и их смерть заставляет нас трепетать и плакать. Я плакала о Гамбетте. Каждый раз перечитывая историю, я оплакиваю Наполеона, Александра, Цезаря. Но Александр окончил жизнь дурно, тогда как Цезарь!..
Эту картину я напишу для себя — как выражение моих чувств, и для толпы, потому что это римляне, потому что здесь есть анатомия, кровь, потому что я женщина, а женщины еще не сделали ничего классического в больших размерах; я хочу пустить в ход все свои способности композиции и рисунка… и это будет очень хорошо. Мне досадно только, что дело происходит в сенате, а не на улице. При таких условиях работа будет представлять одной трудностью меньше, а мне хотелось бы, чтобы они были все!..
Когда я сознаю, что приступаю к вещам особенно трудным, я становлюсь вдруг необыкновенно решительна, необыкновенно хладнокровна; я как-то подбираюсь, сосредоточиваюсь и достигаю большего, чем в вещах, которые по силам всякому. Не нужно ехать в Рим, чтобы писать картину; я начну ее. Однако в марте и апреле весна сообщает такие прелестные тона природе, и я хотела было отправиться писать деревья в цвету в Аржантель… Так много дела в жизни, а жизнь так коротка! Я не знаю, успею ли я выполнить даже и то, что задумано… Святые жены, Большой барельеф, Весна, Юлий Цезарь, Ариадна… Голова идет кругом, хотелось бы все сделать тотчас же… а между тем, все будет создаваться постепенно, в свое время, с замедлениями и охлаждениями и разочарованиями… Жизнь логична: все связано в ней в одну непрерывную цепь…
Я чувствую в себе такой подъем духа, такие порывы к великому, что ноги мои уже не касаются земли. Что меня постоянно преследует, так это боязнь, что я не успею выполнить всего задуманного. Это состояние утомительное, хотя чувствуешь себя счастливой… Ведь я не проживу долго: знаете… дети слишком умные… И потом мне кажется, что свеча разбита на четыре части и горит со всех концов.
Суббота, 1 декабря. Уж не далась ли я, право в обман. Кто вознаградит меня за мои лучшие годы, потраченные… может быть напрасно. Но на все эти сомнения вульгарная половина моего «я» отвечает мне, что ничего лучшего мне и не представлялось, что живи я, как другие, мне пришлось бы слишком много страдать… Тогда я не достигла бы того развития, которое, ставя меня выше других, так… затрудняет меня. — Стендаль имел по крайней мере двух-трех людей, способных понимать его, а у меня… это просто ужасно: все так плоски, и даже люди, которых прежде находила умными, кажутся мне теперь просто глупыми. Уж не выйдет ли из меня в конце, концов так называемая непонятая личность? Нет, но право… Мне кажется однако, что я имею полное основание быть удивленной и недовольной, когда во мне предполагают вещи, на которые я положительно неспособна и которые несовместны ни с моим достоинством, ни с моей тонкостью, ни, наконец, с моей склонностью к изящному.
Вот если бы кого-нибудь… кто вполне понял бы меня, перед кем я могла бы вся высказаться… Кто понял бы все, и в речах кого я узнала бы свои собственные мысли!.. Так ведь это же была бы любовь, дитя мое! Может быть. Но и не ходя так далеко — ну просто людей, которые трактовали бы о вас мало-мальски интеллигентно, с которыми можно было бы поболтать, и это уж было бы так приятно. Но я никого такого не знаю Жулиан был единственный, да вот и он теперь все больше и больше уползает в свою раковинку… И он даже просто несносен, когда он начинает свои бесконечные шуточки, попадающие не в глаз, а в бровь; особенно когда дело зайдет об искусстве: он не понимает, что я вижу ясно и что я хочу добиться, он воображает, что я полна только сама собой. Вообще… впрочем, моментами он все-таки является моим единственным конфидентом.