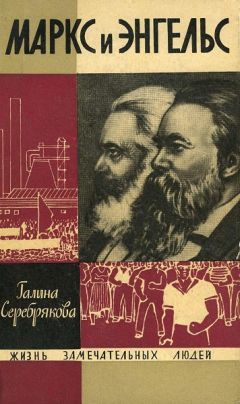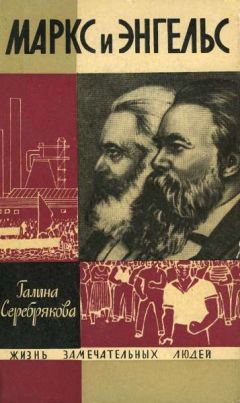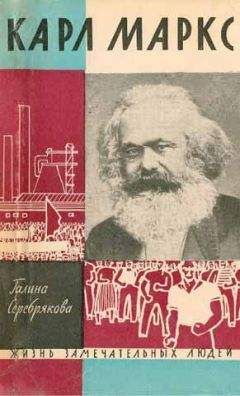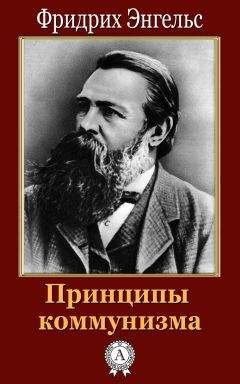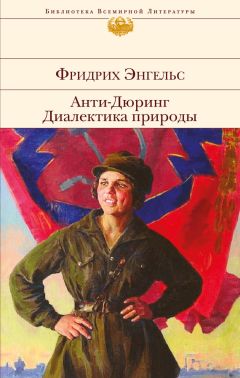Фёдор Шаляпин - «Я был отчаянно провинциален…» (сборник)
— Вот это человек!
Так что «пьянство» мое я понимаю — и даже польщен. Но не понимаю, например, почему «герою» уместно приписывать черты мелкого лавочника?
Вспоминается мне такой замечательный случай. В московском Большом театре был объявлен мой бенефис[189]. Мои бенефисы всегда публику привлекали, заботиться о продаже билетов, разумеется, мне не было никакой надобности. Продавалось все до последнего места. Но вот мне стало известно, что на предыдущий мой бенефис барышники скупили огромное количество мест и продавали их публике по бешеным ценам, распродав, однако, все билеты. Стало мне досадно, что мой бенефисный спектакль оказывается, таким образом, недоступным публике со скромными средствами, главным образом — московской интеллигенции. И вот что я делаю: помещаю в газетах объявление, что билеты на бенефис можно получить у меня непосредственно в моей квартире. Хлопотно это было и утомительно, но я никогда не ленюсь, когда считаю какое-нибудь действие нужным и справедливым. Мне же очень хотелось доставить удовольствие небогатой интеллигенции. Что же, вы думаете, об этом написали в газетах?
— Шаляпин открыл лавочку!..
Богатую пищу всевозможным сплетням давали и дают до сих пор мои отношения с дирижерами. Создалась легенда, что я постоянно устраиваю им неприятности, оскорбляю их, вообще — ругаюсь. За сорок лет работы на сцене столкновения с различными дирижерами у меня, действительно, случались, и все же меня поражает та легкость, с которою мои «поклонники» делают из мухи слона, и та моральная беззаботность, с какой на меня в этих случаях просто клевещут. Не было ни одного такого столкновения, которое не раздули бы в «скандал», учиненный, конечно, мною. Виноватым всегда оказываюсь я. Не запомню случая, чтобы кто-нибудь дал себе труд подумать, с чего я с дирижерами «скандалю»? Выгоду, что ли, я извлекаю из этих столкновений, или они доставляют мне бескорыстное удовольствие?
Уверенность в оркестровом сопровождении для меня, как для всякого, певца, одно из главнейших условий спокойной работы на сцене. Только тогда я в состоянии целиком сосредоточиться на творении сценического образа, когда дирижер правильно ведет оркестр. Только тогда могу я во время игры осуществлять тот контроль над собою, о котором я говорил в первой части этой книги. Слово «правильно» я здесь понимаю не в смысле глубоко художественного истолкования произведения, а лишь в самом простом и обычном смысле надлежащего движения и чередования ударов. К великому моему сожалению, у большинства дирижеров отсутствует чувство (именно чувство) ритма. Так что первый удар сплошь и рядом оказывается или короче второго, или длиннее. И вот когда дирижер теряет такт, то забегает вперед, этим лишая меня времени делать необходимые сценические движения или мимические паузы, то отстает, заставляя меня замедлить действие, — правильная работа становится для меня совершенно невозможной. Ошибки дирижера выбивают меня из колеи, я теряю спокойствие, сосредоточенность, настроение. И так как я не обладаю завидной способностью быть равнодушным к тому, как я перед публикой исполняю Моцарта, Мусоргского или Римского-Корсакова (лишь бы заплатили гонорар!), то малейшая клякса отзывается в моей душе каленым железом. Маленькие ошибки, невольные и мгновенные, у человека всегда возможны. Мои мгновенные же на них реакции обыкновенно остаются незаметными для публики. Но когда невнимательный, а в особенности бездарный дирижер, каких около театра несчетное количество, начинает врать упорно и путать безнадежно, то я иногда теряю самообладание и начинаю отбивать со сцены такты, стараясь ввести дирижера в надлежащий ритм… Говорят, что это не принято, что это невежливо, что это дирижера оскорбляет. Возможно, что это так, но скажу прямо: оскорблять я никого не хочу и очень жалею, если мною кто-нибудь оскорблен; а вот быть «вежливым» за счет Моцарта, Римского-Корсакова и Мусоргского, которого невежественный дирижер извращает и подлинно оскорбляет, я едва ли когда-нибудь себя уговорю… Неспособен я быть «вежливым» до такой степени, чтобы слепо и покорно следовать за дирижером, куда он меня без толка и смысла вздумает тянуть, сохраняя при этом на гриме приятную улыбку…
Я никогда не отказываю в уважении добросовестному труду, но имею же я, наконец, право требовать от дирижера некоторого уважения и к моим усилиям дать добросовестно сработанный спектакль. С дирижерами у меня бывают тщательные репетиции. Я им втолковываю нота в ноту все, что должно и как должно быть сделано на спектакле. На этих репетициях я не издаю декретов: все мои замечания, все указания мои я подробно объясняю. Если бы дирижер действительно пожелал меня куда-нибудь вести за собою, я бы, пожалуй, за ним пошел, если бы только он меня убедил в своей правоте. Логике я внял бы, даже неудобной для меня. Но в том-то и дело, что я еще не видел ни одного дирижера, который логично возразил бы мне на репетиции. Если меня спросит музыкант, артист, хорист, рабочий, почему я делаю то или это, я немедленно дам ему объяснение, простое и понятное, но если мне случается на репетиции спросить дирижера, почему он делает так, а не иначе, то он ответа не находит…
Эти дирижерские ошибки, мешающие мне петь и играть, почти всегда являются следствием неряшливости, невнимания к работе или же претенциозной самоуверенности при недостатке таланта. Пусть дирижеры, которые на меня жалуются публике и газетам, пеняют немного и на себя. Это будет, по крайней мере, справедливо. Ведь с Направником, Рахманиновым, Тосканини у меня никогда никаких столкновений не случалось.
Я охотно принимаю упрек в несдержанности — он мною заслужен. Я сознаю, что у меня вспыльчивый характер и что выражение недовольства у меня бывает резкое. Пусть меня критикуют, когда я те прав. Но не постигаю, почему нужно сочинять про меня злостные небылицы? В Париже дирижер портит мне во французском театре русскую новинку, за которую я несу главную ответственность перед автором, перед театром и перед французской публикой. Во время действия я нахожу себя вынужденным отбивать со сцены такты. Этот грех я за собою признаю. Но я не помню случая, чтобы я со сцены, во время действия, перед публикой произносил какие-нибудь слова по адресу дирижеров. А в газетах пишут, что я так его со сцены ругал, что какие-то изысканные дамы встали с мест и, оскорбленные, покинули зал!.. Очевидно, сознание, что я недостаточно оберегаю честь русского искусства, доставляет кому-то «нравственное удовлетворение».
А какие толки вызвало в свое время награждение меня званием Солиста Его Величества. В радикальных кругах мне ставили в упрек и то, что награду эту мне дали, и то, что я ее принял, как позже вменяли в преступление, что я не бросил назад в лицо Луначарскому награды званием Народного Артиста. И так, в сущности, водится до сих пор. Если я сижу с русским генералом в кафе de la Paix, то в это время где-нибудь в русском квартале на rue de Banquiers обсуждается вопрос, давно ли я сделался монархистом или всегда был им… Стоит же мне на другой день в том же кафе встретить этакого скрывающегося неизвестно от кого знакомого коммуниста Ш. и выпить с ним стакан портвейну, так уже на всех улицах, где живут русские, происходит необыкновенный переполох. В конце концов они понять не могут: