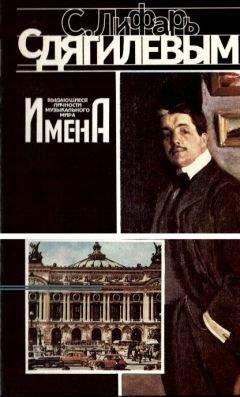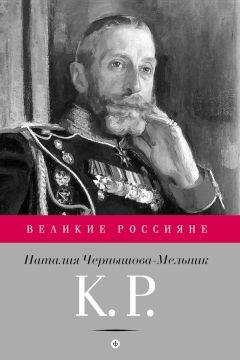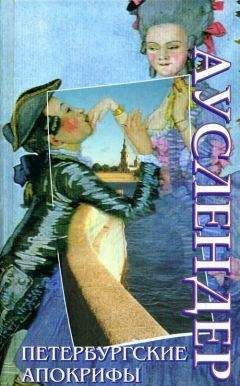Наталия Чернышова-Мельник - Дягилев
Дягилев работает над рукописью. Рисунок М. Ф. Ларионова. 1929 г.
Но вот что удивительно: восприняв с самого начала идею этой постановки с большим энтузиазмом, Дягилев очень быстро к ней охладел. Более того, вызвав вскоре после начала работы над спектаклем Набокова, Маэстро тут же стал уверять его в предстоящем провале. Впоследствии Ника вспоминал: «Он сказал, что постановка „Оды“ связана с серьезными трудностями, что судьба этого балета никого не беспокоит по-на-стоящему и что с самого начала всё пошло вкривь и вкось… Он пояснил, что единственной причиной, заставившей его, вопреки доводам здравого смысла, все-таки дать согласие на постановку „Оды“, было желание Лифаря. Тому понравилась музыка, и в наступающем сезоне он хочет выступать в двух балетах».
Понизив голос, Дягилев добавил: «Вы сами знаете, тщеславие у Сережи непомерное, а мозгов в голове мало. Если ему и понравилась Ваша музыка, тут чести немного».
После посещения первых же репетиций Дягилев словно забыл об этом балете. Все его помыслы были теперь отданы другой постановке — детищу И. Стравинского и Д. Баланчина.
Музыка Стравинского покорила Маэстро еще в сентябре прошлого, 1927 года, когда он впервые услышал ее в Ницце. О своем впечатлении Сергей Павлович тогда же написал Лифарю: «…он мне играл первую половину нового балета. Вещь, конечно, удивительная, необыкновенно спокойная, ясная, как у него еще никогда не было, контрапунктическая работа необыкновенно филигранна, с благородными прозрачными темами, всё в мажоре, как-то музыка не от земли, а откуда-то сверху. Странно, что вся эта часть почти сплошь медленная, а вместе с тем очень танцевальная; есть небольшой быстрый кусочек в твоей первой вариации (их будет две) — всё же начало вариации идет под игру скрипки соло без аккомпанемента оркестра. Очень замечательно. В общем, чувствуется помесь Глинки с итальянцами XVI века — однако никакого нарочитого русизма. Сыграл он мне всё это три раза подряд… общее необыкновенно гармонично. Я его расцеловал, а он мне сказал: „а ты мне его хорошенько поставь, чтобы Лифарь делал разные фиоритуры“. Когда поезд уже шел, он крикнул мне: „Найди хорошее название“».
И вскоре оно появилось — «Аполлон Мусагет». Начались репетиции балета, и теперь Дягилев с надеждой смотрел на Баланчина. Невольно ему вспомнились тютчевские строки: «Нам не дано предугадать, / Как слово наше отзовется». В данном случае словом должна была стать хореография. Сергею Павловичу очень хотелось верить, что она окажется сродни музыке…
Закончив сезон в Монте-Карло, труппа отправилась в турне по городам Бельгии: Антверпен, Льеж, Брюссель. В Брюсселе власти пригласили Русский балет принять участие в открытии Дворца изящных искусств. Это было огромное, только что построенное здание, в котором, впрочем, не оказалось главного для артистов — сцены. Пришлось им довольствоваться площадкой для концертов. И всё же выступление прошло превосходно, по красоте и мастерству исполнения оно напоминало то, что состоялось в Версале в 1923 году.
Дягилев, конечно, гордился этим успехом. Но его радость была не столь глубока, как пять лет назад. Ближайшие сотрудники видели это по его глазам. Мысленно он был уже в Париже. Туда Сергей Павлович и отправился сразу же после триумфа труппы — но вовсе не по балетным делам, как бывало прежде. В его жизни началась новая полоса, связанная с книгоманией: во французскую столицу пришли пакеты с заказанными им книгами.
Колея, которую Маэстро прокладывал все эти годы, оказалась столь глубокой, что труппе Русского балета успех сопутствовал даже в его отсутствие. Правда, не обошлось без досадного инцидента в день первого представления в брюссельском театре «Дела Монне». Эту сценическую площадку использовали в большинстве случаев для оперных, а не балетных спектаклей. Режиссер Григорьев с ужасом обнаружил, что колосники битком набиты декорациями. Он попытался объяснить своему местному коллеге, что в заявленном в программе «Триумфе Нептуна» девять сцен и, не имея определенного пространства на колосниках, смену декораций произвести невозможно.
Но тот наотрез отказался освободить пространство, и при первой же смене декораций задник застрял в колосниках. С. Л. Григорьев вспоминает: «…мне пришлось опускать занавес, чтобы освободить его оттуда, что продолжалось при каждой смене декорации. В результате балет шел бесконечно, и нет надобности говорить, что он провалился. Если мне когда-либо хотелось кого-то убить, то это был режиссер театра „Де ла Монне“!»
Остальные выступления были очень успешными — как в Бельгии, так и в Швейцарии, куда в начале июня перебралась труппа. В городе-курорте Монтрё, расположенном на берегу Женевского озера, артисты Русского балета приняли участие в традиционном «празднике нарциссов», а после этого направились в Париж, где вот-вот должен был начаться сезон в «Театре Сары Бернар». Дягилев уже ждал их там. Программки с великолепными иллюстрациями и фотографиями артистов обещали публике достойное продолжение праздника, который длился уже два десятилетия.
У сотрудников Дягилева создалось впечатление, что он совершенно отстранился от постановки «Оды». Сергей Павлович всем своим видом показывал: пусть Кохно справляется без его руководства! Дубок же, едва начав работу над новым балетом, понял, что идея его отнюдь не проста, и то и дело обращался к Маэстро за советом. Тот же, словно в назидание Борису, держался твердо и наотрез отказывался ему помогать, при этом добавлял полушутя, что Кохно должен сам найти нужное решение. Так продолжалось чуть ли не до самой премьеры. По признанию Т. Карсавиной, постановка, «великолепная во всех своих составных частях, проявляла печальные признаки того, что ее тянут в разных направлениях. В ней было не больше координации, чем в оркестре без дирижера. За пять дней до премьеры постановка всё еще представляла собой бесформенную массу не согласованных между собой частей. Музыка, декорации и танец не связывались в одно целое. И в этот момент Дягилев взял на себя бразды правления. Он всех загнал, но больше всех себя самого. Высококомпетентный во всех вопросах искусства, он в последний час свел воедино музыку, хореографию, освещение и даже руководил изготовлением костюмов…».
Карсавиной вторит Н. Набоков, подчеркивая, что накануне премьеры «предсказание Дягилева сбылось: телегу, именуемую „Ода“, тащили в разные стороны». Бедный Ника не имел никакого представления о том, что делает ревниво охранявший от «посторонних» свой замысел художник Павел Челищев или, например, как работает с артистами Леонид Мясин. Порой ему казалось, что каждый из создателей спектакля пытается потихоньку, втайне от других, реализовать свои самые дерзкие замыслы, убеждая себя в том, что странность сюжета освободит от ответственности.