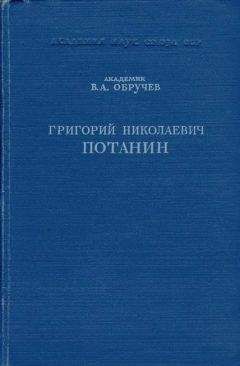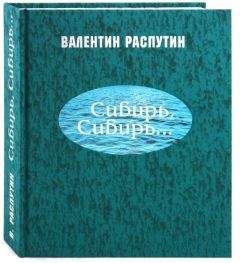Александра Потанина - Сибирь. Монголия. Китай. Тибет. Путешествия длиною в жизнь
Мечтая об этом, он представлял своей слушательницей свою двоюродную сестренку Седен. В последнее время, работая и играя вместе на сенокосе и живя рядом зимой, он особенно близко сошелся с ней. Теперь, живя в школе, он часто вспоминал о ней, и ему очень бы хотелось поговорить с ней. Ей он мог бы, не стесняясь, рассказать о всех своих обидах и огорчениях, о всех шутках и насмешках товарищей, жаловаться на которых кому бы то ни было в школе, хотя бы и своим, было для него стыдно, и чего он никогда и не делал, затаивая все обиды глубоко у себя на душе.
Мало-помалу буряты все более и более привыкали к русским и втягивались в общую жизнь школы. По утрам они терпеливо переносили скуку классных уроков, на которых почти ничего не понимали, а после обеда вознаграждали себя веселыми играми на школьном дворе. Хорошая осень, товарищество, множество игр, многие из которых одинаково обычны для бурят и для русских, помогали им весело проводить время.
В то же время в играх незаметно усваивался русский язык, и слияние всех в одно общее товарищество двигалось весьма успешно. Дорджи, занятый своими печальными мыслями, схоронился от веселых товарищей. Они, конечно, платили ему тем же, звали его «совой», «нюней», «девчонкой»; беспрестанно устраивали ему маленькие неприятности и, пользуясь его рассеянностью, подстраивали ему множество всякого рода штук. Дорджи почти возненавидел русских мальчиков; самый вид их сделался ему противен; ему казалось, что все они безобразны: белокурые волосы, расплывшиеся носы, отсутствие ярко очерченных бровей, – все казалось ему отталкивающим, а главное – ему не нравилась в них постоянная готовность подсмеяться над товарищем и вечная склонность считать бурят существом низшим.
Эта последняя черта хотя и высказывалась как-то непостоянно, неровно: назвав бурята тварью, каждый из русских через минуту готов побрататься с ним, но самая эта неустойчивость не нравилась Дорджи. Он думал: «Ну, презираете вы меня, – так уж и не лезьте. Я и сам не хочу с вами после этого знаться!» Мало-помалу Дорджи уверил себя, что у всех русских жестокость – преобладающая черта характера. «Разве не жестоко надсмеялись над ним приказчики у весов, а что он сделал? Разве мальчики не устраивали постоянно таких шалостей, от которых другим становилось больно? А чем все это было вызвано?» Сначала Дорджи, не понимавший совсем по-русски и не привыкший к школьной жизни, не примечал всей отравы, а теперь он то и дело натыкался на сцены насилия и несправедливости: то большие школьники отнимали у маленького лакомства, то маленького бурята научали, под видом какой-нибудь нужной ему русской фразы, самому неприличному ругательству, и несчастный, ничего не подозревавший, обращался к учителю или товарищу и терпел брань или насмешки.
Учиться при таких обстоятельствах казалось Дорджи немыслимым. Он не знает языка, а никто из учителей ни разу не оказывал ему в этом и малейшей помощи. Да и как они могут, когда сами бурятского языка не знают? Если же нельзя учиться, так зачем же тут жить? – И Дорджи укреплялся в той мысли, что надо из школы бежать… Тут сам собою возникал новый вопрос: как он доберется до своего улуса? У него нет лошади, нет никаких запасов. Затем неизбежно подымался вопрос и о том, как примет его отец. «Положим, что он меня и приколотит, – думал Дорджи, – все же это легче, чем жизнь в ненавистной школе».
И вот, приготовив себя такими мыслями, Дорджи в субботу после обеда, воспользовавшись отсутствием части учеников, обыкновенно отправлявшихся в это время в баню, вынул из своего сундучка мешочек с съестными припасами, тетрадку с словарем, карандаши и перочинный ножик; монгольский ножик заткнул за кушак и, испробовавши предварительно, действует ли огниво и есть ли трут, незаметно выбрался за ворота школьного дома. Он пошел по направлению к полю, волнуемый страхом встретиться с кем-нибудь из школьников; благополучно добравшись до большой дороги, мальчуган пошел уже как можно скорее, рассчитывая уйти подальше в этот день, – он полагал, что до ночи в школе его не хватятся.
Движение, свежий воздух, мысль, что он освободился от школы, в которой томился в последнее время, очень хорошо подействовали на маленького беглеца; и он ободрился и весело посматривал по сторонам, на поля и леса. У него теперь была одна главным образом занимающая его мысль: сколько может человек пройти пешком в один день. Буряты так привыкли ездить всюду на лошади, что Дорджи как-то не случалось узнать об этом. Радовался Дорджи тому, что не забыл дорогу: всякое деревцо, растущее возле дороги, каждую рытвину, каждый перелесок он вспоминал, как уже виденные им раньше; не было такой мелочи, которую он не заметил бы. По его расчетам, надо было уже скоро поравняться с дачами кяхтинских купцов, которыми он так тогда любовался.
Дорджи думал, что, дойдя до них, он остановится на ночь; ведь надо же ему отдохнуть несколько часов, чтобы подкрепиться силами назавтра. «Теперь, – думал он, – я разгляжу эти постройки в подробности, спрятавшись где-нибудь в кустах, около домов». Усталость между тем стала для него весьма ощутительною; к тому же его сапоги оказались велики: они терли ему пятки, и хоть он уже несколько раз садился на дороге и переобувался, а лучше все же таки не было. Солнце уже совсем спускалось, а дачи все еще не показывались.
Дорджи решился подкрепиться пока едой, сел и стал грызть совсем высохший кусок сыру; но от усталости во рту у него пересохло, и он не мог глотать. Вздохнув о том, что хорошо было бы выпить теперь горячего чайку или чашку кислого молока, которое так освежает и подкрепляет, он волей-неволей пустился в дальнейший путь. По дороге часто встречались проезжие, все спешили на ночь в город; Дорджи, завидев экипаж, сходил для предосторожности с дороги и шел стороной. Солнце закатилось, а он все шагал и шагал. Впереди виден был лес; теперь только Дорджи припомнил, что лес этот кончался как раз на половине дороги между городом и дачами, – неужели он ушел так мало? Да ведь тогда он сидел на своем Рыжке, и немудрено, что версты казались ему короче! Он с грустью должен был сознаться, что оказался плохим ходоком, и ясно видел теперь, что придется ночевать в лесу, далеко от всякого жилья.
Дошедши до опушки леса, он повалился на траву; все тело у него ныло, точно он был побит; однако лежать еще было нельзя, надо было, пользуясь сумерками, набрать хворосту для костра. Усталость мальчика была так велика, что он с удовольствием остался бы на всю ночь без огня, но он боялся волков, а между тем слыхал, что волки не подходят близко к огню. Может быть, здесь волков и нет, но кто же знает? Там, в родных местах, ему все известно, а здесь он не знает ровно ничего; ведь вот он даже не знал, где здесь вода, и хоть ему очень хотелось пить, но он не решился искать воды: усталость одолевала, приходилось терпеть. Натаскавши хворосту, Дорджи все-таки не решался зажечь огонь сейчас же; ему казалось, что этим он привлечет внимание проезжающих: осенний лес уже не был густ и плохо скрывал его; по его расчетам, следовало подождать, когда настанет ночь; а между тем уже становилось холодно и Дорджи, вспотевший от ходьбы, начинал мерзнуть.