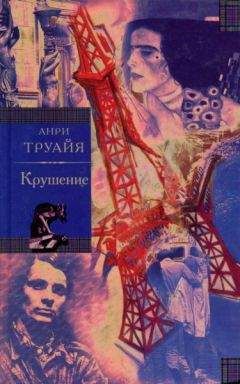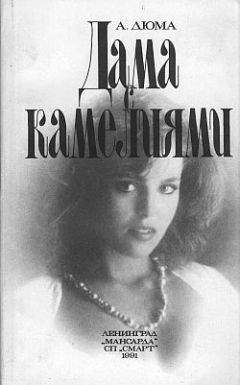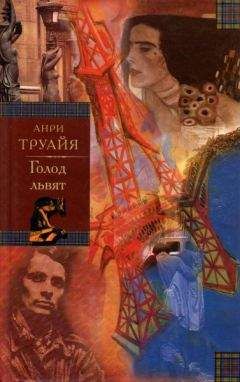Анри Труайя - Александр Дюма
А в сатирической газете «Tintamarre» («Шум») появилась баллада «Всегда он!» (немедленно перепечатанная «Фигаро») с эпиграфом из Жан-Жака Руссо: «Кто посмеет поставить природе четкие границы и сказать: „Вот докуда может идти человек, но ни шагу дальше!“»
Она наездницей была,
Писателем был он.
Она цвела, его ж дела
Катились под уклон.
Она была свежа, легка,
Была в расцвете сил,
А он чуть меньше бурдюка
Животик отрастил.
Она брюнеткою была,
Был седовласым он.
И вот судьба их там свела,
Где слышен рюмок звон.
Как мушкетер и экс-герой,
Что неизменно мил,
Он, позабыв про возраст свой,
Ей поцелуй влепил.
«Тубо! Не к месту этот жар! —
Воскликнула она. —
Хотя ты толст, хотя ты стар,
Добыча не жирна.
Какая выгода с тебя?»
«Всех выгод и не счесть:
Мое внимание привлечь —
Уже большая честь!»
Она в ответ: «Писатель мой,
Чтоб мне не сплоховать,
Ты на колени предо мной
Немедля должен встать.
Тебе поверю я тогда,
Мы славно заживем…»
Вы в лавках можете всегда
Увидеть их вдвоем.[104]
Узнав об этих шутовских злоключениях своего великого собрата, Жорж Санд, преисполнившись сочувствия, написала Дюма-сыну: «До чего же, должно быть, вам неприятна вся эта история с фотографиями! Но что поделаешь! С возрастом начинают сказываться печальные последствия богемного образа жизни. Какая жалость!»
Дюма огорчался из-за своего «падения» куда меньше, чем его дети и его истинные друзья. Он продолжал встречаться с Адой как ни в чем не бывало, словно она не заманила его в ловушку. Они вместе бывали на парижских вечеринках и вместе принимали гостей в квартире, которую она наняла для того, чтобы дать приют их связи, на улице Шоссе-д’Антен. «Если у меня и впрямь есть талант, как верно то, что у меня есть душа, то и другое принадлежит тебе», – говорил он ей.
К сожалению, Ада была связана заключенными раньше контрактами и должна была в июле уехать в турне по Австрии и Англии, пообещав, что через месяц вернется в Париж, чтобы возобновить выступления в «Пиратах саванны». Она сдержала слово и в самом деле приехала, но, едва оказавшись в Париже снова, слегла с острым перитонитом и, проболев несколько дней, умерла в Буживале 10 августа 1868 года. Одни лишь ее грумы, ее горничная, несколько товарищей-актеров и конь, с которым она выступала, проводили останки на кладбище Пер-Лашез.[105]
В эти последние несколько месяцев, заполненных пустой суетой и страстью без завтрашнего дня, до Дюма постоянно доходили слухи о военных приготовлениях. Не так давно, в начале 1867 года, он напечатал в «Мушкетере» и в «Ситуации» два романа – «Белые и синие» (с подзаголовком «Пруссаки на Рейне») и «Прусский террор». В первом из них он рассказывал о лихорадочной жизни в Эльзасе в то время, когда французские солдаты под предводительством Оша и Пишгрю остановили, потом гнали назад врага. Во втором еще более подробно, при помощи волнующей интриги, обрисовал опасность, угрожающую Франции от чрезмерно могущественного соседа у ее границ. Главный герой романа, Бенедикт Тюрпен, был воплощением французского «блеска», противопоставленного тяжеловесной германской мстительности. Своего рода «вторым д’Артаньяном». Но, несмотря на талант автора, этот д’Артаньян не стал таким же любимцем читателей, как первый. Дюма огорчился, поскольку, по его мнению, эти две новые книги были предостерегающими. Ему хотелось открыть соотечественникам глаза на дисциплинированный и воинственный народ, который готовится их истребить. Пруссия казалась ему сегодня тем более грозной и опасной, что она уже доказала могущество своей армии, разгромив австрийцев под Садовой и аннексировав Ганновер, став отныне цельным государством, раскинувшимся от Немана до Саара, государством, чьи амбиции, думал он, несомненно, на этом не остановятся. И был уверен, что одна только Франция способна преградить дорогу Бисмарку, хотя после поражения французов в Мексике и казни марионеточного императора Максимилиана все больше и больше сомневался в том, что Наполеон III сможет управлять внешней политикой страны.
Дюма только что ненадолго съездил в Германию, чтобы разобраться в том, какие чувства испытывает ее население по отношению к Франции, и вернулся оттуда удрученным. «Тот, кто не путешествовал по Пруссии, не может составить себе представление о той ненависти, которую питают к нам пруссаки, – пишет он. – Это род навязчивой идеи, которая смущает и самые ясные умы. В Берлине можно сделаться популярным министром лишь в том случае, если дашь понять, что рано или поздно Франции будет объявлена война. Можно стать оратором лишь в том случае, если всякий раз, как взойдешь на трибуну, будешь отпускать по адресу Франции одну из тех тонких эпиграмм или остроумных двусмысленностей, которыми так легко орудуют северные немцы. Наконец, можно быть поэтом лишь при условии, что тобой написан прежде или будет написан против Франции какой-нибудь ямб под названием „Рейн“, „Лейпциг“ или „Ватерлоо“».
Эти страшные в своей ясности строки нисколько не тронули парижан, больше озабоченных собственными мелкими личными делами, чем тем великим делом, которое, возможно, готовилось по ту сторону Рейна. Стремясь вернее привлечь внимание земляков, Дюма в феврале 1868 года основал новую газету, которая должна была заменить покойного «Мушкетера II»; она называлась «Дартаньян» («Le Dartagnan») и выходила по вторникам, четвергам и субботам. Цена подписки – пятнадцать франков в год. Используя страницы этой газеты с громким именем, Александр предавался бесконечным разглагольствованиям как на самые серьезные, так и на самые легкомысленные темы. А читатели – читатели не понимали, чего он от них хочет. В итоге через пять месяцев «Дартаньян» прекратил свое существование, и Дюма назначил его преемником еженедельную «Театр-газету». Форма изменилась, содержание осталось тем же, соответственно и участь новое издание постигла та же: газета тихо скончалась, просуществовав всего несколько месяцев.
И отсюда или при этом – вечная нехватка денег, мешавшая писателю грезить в свое удовольствие: несмотря на возобновление «Антони» и «Госпожи де Шамбле», Дюма с трудом сводил концы с концами. Приходилось платить судебным исполнителям, которые один за другим являлись к нему в дом, приходилось занимать, чтобы спасти имущество от ареста, не зная, как и когда он сможет вернуть новый долг, приходилось увертываться, ловчить, пускать пыль в глаза, лгать и изворачиваться… Александр продал кое-какую мебель, рассчитал всех слуг, кроме кухарки и верного грузина Василия… Но он по-прежнему не мог обходиться без женщин. Они были его насущным хлебом, они составляли самую суть его жизни. Теперь почти все, что еще приходили к нему, были нищими и вороватыми проститутками. Они таскали у него последние деньги, завалявшиеся в ящиках секретера. «Хоть бы одну несчастную монетку в двадцать франков мне оставили!» – жалобно восклицал он в присутствии Матильды Шоу, занимавшей все больше места в его существовании.