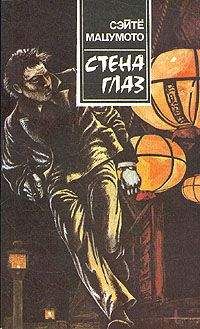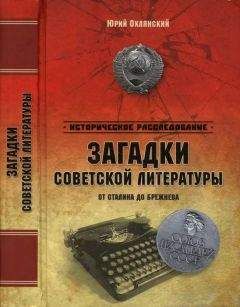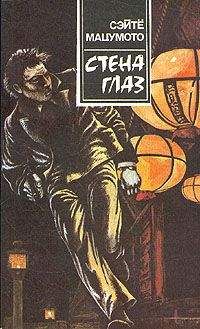Юрий Оклянский - Оставшиеся в тени
Одним словом, несмотря на попытку сменить место жительства и квартиру, Грете не удалось бежать от своего жребия. И она была не только разыскана или призвана, но и по доброй воле заново очутилась в Сковсбостранде. В том самом отдельном домике на краю рыбацкой деревушки, где писалась, доделывалась и в копиях на машинке и стеклографе размножалась первая редакция пьесы «Жизнь Галилея».
Таковы некоторые биографические частности, характеризующие предшествующие отношения сотрудников.
Эти, может быть, и вовсе не значительные для истории литературы детали и мелкие подробности, однако же, не стоит упускать из виду.
Тем более что при огромной масштабности и многообразии проблем, выдвинутых писателем в «Жизни Галилея», и исторической специфике самого жанра, как уже доводилось замечать, речь идет об одном из самых автобиографических и даже в известной мере исповедальных произведений в драматургии Брехта.
…Можно представить себе, с каким острым любопытством, со спрятанным в глазах пугливым и въедливым вопросом, почти как на чужого, и будто ненароком бросала взгляды Штеффин на этого человека, когда он, только возникнув, при мутном свете неохотно начинающегося дня, молча прихлебывал кофе из чашки, внутренне собираясь к работе. Или, занятый диктовкой, вышагивал по беспечно чистеньким половичкам наемной рыбацкой хижины, вдруг замолкал и бродил понуро взад-вперед, сосредоточенный, обдумывая дальнейшие ходы и развитие пьесы.
Вот тогда и случалось мгновение — отвлечься, сравнить с тем, что накануне перечитала, слышала, давно знала, — и вдруг даже испугаться. Полно, с ней ли это происходит? Этот ли человек на ее глазах создает такое? Это же необыкновенные, великие страницы, ей ясно. Но как совмещается и уживается в нем столь разное?!
Он до последней морщинки на лице, до мешковатого сгиба спины, до отдающего хрипотцой раската высокого, как бы утомленного голоса знакомый и всегда иной, новый — господин Брехт, Берт, товарищ Брехт, ее Биди… Кто же он такой?
И она тогда быстрым взглядом выхватывала отдельные черты его облика и, будто уворованные, укрыв их в себе, внутренне осматривала, испытывала, пытаясь заново сложить и составить их в целостный образ. Как много в нем всего! Но четко обозначаются, живут и преобладают, пожалуй, два начала.
Худое лицо аскета, глубоко посаженные, всегда неожиданные глаза, под проволочными очками, в них тайна, целый мир в них, и сухощавые страстные ноздри, белые, безмускульно помахивающие руки и короткие толстые ноги, твердо ступающие по земле, губы узкие, язвительные и в то же время алые, влажные, аппетитные. Это был великий подвижник, неукротимый правдолюбец и мастеровой.
Внешне тип астенический. Такие любят лакомить тело, а тощими остаются, как фараоновы коровы. Никакие яства не идут им впрок. Все сжигает, очевидно, высокая подвижность и напряженная жизнь духа.
По изначальной натуре в нем много было от южанина, от баварца. Такие еще с молодости — заводилы компаний, пивники, женолюбы, бренчалыцики на гитаре. И при внешности вроде бы самой никудышной — кажется, чучело горбоносое! — постоянный предмет общих девичьих интересов и воздыханий. Причем с ходом лет пристрастия молодости не развеиваются, разве, преобразуясь, меняют формы.
(Даже по нынешним временам Грета знала за ним, например, такую причуду. Изредка, когда хотел полностью расслабиться, он устраивал себе ночное пиршество в одиночестве. Перед тем как отойти ко сну, затворялся в комнате. На столе стояло несколько бутылок баварского пива и тарелка с ломтиками сыра иногда десяти и больше сортов, которые удавалось раздобыть в местных лавчонках. Осенью 38-го то и другое в Дании еще было доступно.
Он сидел долго за полночь, отхлебывал пиво, закусывал сыром. Слушал радиопередачу: известия, новости, потом просто тишину. Так он отдыхал, приходил в себя, лакомился, наслаждался, раздумывал, выламываясь из текучки повседневных событий.)
Да, пристрастия молодости не развеиваются… Вот, например, и главное действующее лицо нынешней пьесы — Галилей, фигура, многими признаками внутреннего заряда близкая автору, тоже явно не избежала их отсвета. Он не просто южанин, весьма схожего по темпераменту склада, — итальянец, флорентиец. Этот неутомимый подвижник и пытливый искатель истины — вместе с тем любитель вкусно поесть, насладиться жизнью. Чревоугодник, гусеед, патриот собственного желудка. И что самое главное — убежденный поборник примерно таких же взглядов и представлений на физическую природу человека, как автор. Этого, можно сказать, брехтовского варианта эпикуризма.
Конечно, в них много и разного. Персонаж далеко не во всем автопортрет драматурга. И все-таки даже забавно становится, как в великом ученом флорентийце XVII века проглядывает подчас натура небезызвестного баварца, шваба, который, подыскивая очередной поворот слова и мысли для дальнейшего оживления своего литературного собрата, озабоченно прохаживается сейчас по комнате…
А он вышагивает и вымеривает ногами мысленный диалог с историческим Галилеем, вызываемым из небытия силой воображения. И одновременно с той живой окружающей действительностью, которая все более угрожающими вестями напоминает о себе с каждым прибывающим сюда с материка паромом и судном…
* * *
…Еще в начале их сотрудничества Грете довелось слышать шутливое замечание Брехта, что для написания пьесы надо лишь найти счастливый желудь, из которого прорастает потом все дерево.
Такой многозначительный образ, почти символ, в котором сопрягаются и преломляются так или иначе основные художественные идеи произведения, он действительно нередко стремился отыскать *и прежде и впоследствии.
Подобные ключевые формулы нетрудно распознать в публицистической драматургии Брехта. В «Трехгрошовой опере» и «Карьере Артуро Уи» — это образные конструкции «треста нищих» и гангстерского треста «Цветная капуста»; в «Мамаше Кураж» — знаменитый фургон маркитантки Анны Фрилинг, который тянется и скачет по всем проселкам и колдобинам Тридцатилетней войны; в «Добром человеке из Сезуана» — художественный прием раздвоения души одного человека на два начала, доброе и злое и т. д.
«Земля вертится» — так предложил первоначально назвать Брехт пьесу «Жизнь Галилея». Это и была та образная формула, которая, как оказывается, одинаково вмещала в себя и отголоски страстей былых столетий и жгучий драматизм сегодняшнего дня.
Всякая истина враждебна фальши, ненавистна ей. И уже поэтому имеет будоражащее, революционизирующее воздействие, в особенности — в странах деспотически-реакционных и фашистских режимов. Таково было одно из заветных убеждений Брехта.