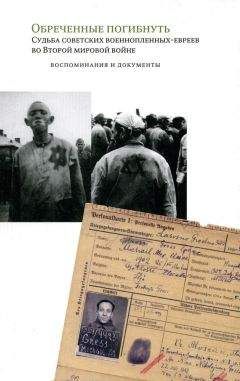Павел Полян - Обреченные погибнуть. Судьба советских военнопленных-евреев во Второй мировой войне: Воспоминания и документы
Но радость была преждевременной. Прибежал тот же старшина, сообщив, что поп будет обходить палаты, и чтобы мы к этому подготовились. Меня это известие очень расстроило. Дело в том, что я никогда и нигде не скрывал своей национальности. Нам было известно, что немцы евреев не берут в плен, а расстреливают на месте. Мы полагали, что и финны так поступают. Однако, когда финский офицер (уже здесь, в госпитале) заполнял мою карточку пленного, я назвался евреем, хотя вполне мог это скрыть. Какие последуют после этого действия, я не знал.
И вот в палату входит армейский поп. Его вид меня смущает. Я привык видеть попа с длинными волосами, с бородой и в рясе. А этот одет, как и все финские офицеры, с короткой стрижкой и без бороды. Говорит на чистом русском языке. Он подходит к каждой койке, дает целовать крест и благословляет.
Я не знал, как мне поступить. Целовать крест мне было противно. Какая-то внутренняя сила не давала мне этого сделать. С другой стороны, я был уверен, что если я этого не сделаю, то это чревато большими неприятностями, может быть, роковыми. Во-первых, среди лежащих в палате были ярые антисемиты. Во-вторых, я не знал, как отреагирует поп. Я был почти уверен, что он доложит начальству, и последствия будут самые ужасные.
Поэтому в мозгу возникла мысль: поцеловать этот противный крест и не подвергать себя никакой опасности. До последней секунды я не знал, как я поступлю. Но вот поп уже подходит к моей койке. Он садится на стул и протягивает мне крест. В первое мгновение я приподнялся на койке и потянулся было к кресту. Но затем какая-то сила меня снова уложила на койку. Я не мог этого сделать. Он недоуменно посмотрел на меня. Я тихо сказал: «Я некрещеный». Он очень удивился и спросил: «А кто же вы?» — «Я еврей».
Я замер. Я думал, что сейчас последует что-то ужасное. Я закрыл глаза и ждал. Но он ничего не сделал, а только сказал: «Тогда я к вам пришлю раввина».
Я был страшно изумлен. Холодный пот выступил на лице. Я не знал, чем все это кончится. Я не верил, что придет раввин, но я был очень доволен, что не поступился своими принципами. Раввин, конечно, не пришел, но меня пока не трогали.
Часть 31942–1943
Есть на свете добрые люди
Была зима 1942 г. Лютая, холодная зима. Здесь, в Финляндии, она особенно свирепая. Дуют сильные ветры с Финского залива. Мы здесь почти ничего не знали, что делается в мире, в родной стране. Обрывки новостей, которые доходили до нас, были очень тревожными. Страна наша переживала страшное время.
Между тем, рана моя, как ни странно, начала затягиваться. И хотя нога сильно болела, и я был очень слаб, я начал понемногу передвигаться без костылей. Таких больных в госпитале не держали: их выписывали и отправляли на лесозаготовки. Что ждет меня впереди? Было страшно даже думать об этом. С моим здоровьем, с больной ногой, в ветхих лохмотьях, которыми снабжались выписанные, попасть в лес в эту пору — значило верную гибель. Я постепенно привык к этой мысли. Но и здесь судьба мне улыбнулась.
Каждую неделю в госпитале проходил обход больных на предмет выписки. Старшая сестра, старший врач и комендант лагеря (свирепый финский майор немецкого происхождения, всегда с плеткой в руках) подходили к каждой койке, и если человек мало-мальски стоял на ногах, его тут же выписывали. Несколько таких обходов (уже тогда, когда я был ходячим больным) меня пронесло. Как только сестра подводила начальство к моей койке, она что-то говорила им на своем языке, и они, даже не разбинтовывая рану, уходили к следующей койке. Бывают же такие добрые люди на свете, как эта милая сестра! Но долго, конечно, это продолжаться не могло. Держать в госпитале «здорового» больного даже старшая сестра не смела. На одном из обходов (после шестимесячного пребывания в госпитале) я был выписан как выздоровевший.
Я спустился вниз. Мне выдали мое скудное «обмундирование». Зима была еще в зените. С поникшей головой я ждал отправки в «лесную команду», то есть на верную гибель. Но каково было мое изумление, когда я узнал, что меня оставляют работать в этом же госпитале санитаром. Опять постаралась та же старшая сестра. Смогу ли я когда-нибудь и чем-нибудь ее отблагодарить?
Санитар в таком госпитале — это не мед. Это адская работа. Но все же это значило быть в тепле и вселяло надежду на выживание.
Санитар
Казалось бы, работа санитара не такая уж трудная. Однако, в моем ослабленном состоянии, при больной ноге, — это был адский труд. Было очень тяжело физически и еще более тяжело морально. За мной была закреплена палата, где лежали в основном тяжело раненные младшие офицеры Красной армии. Почти все — лежачие больные (один даже без обеих рук и ног). Их было человек 20. Их надо было полностью обслужить: подавать утки, судна, обмывать. Надо было приносить пищу и всех накормить. Кухня находилась далеко во дворе. С моей больной ногой надо было поднять на третий этаж ведра баланды, хлеб и прочее. В первые дни я думал, что не выдержу этого. Я старался помочь своим подопечным, чем только мог. Очень тяжело было видеть, как они, голодные, ждали, пока я разливаю по тарелкам жидкую баланду, как они смотрели на то, как я режу кусочки положенного им хлеба. Затем я накрывал пайку хлеба рукой и кричал: «Кому?» Один из них называл фамилии. Не дай Бог, чтобы кому-нибудь досталось на кусочек больше. Я их понимал. Они были голодные и я тоже. Но они лежали, а я работал. И работал тяжело. И если я себе в тарелку наливал немного больше баланды, это вызывало немой укор в их глазах.
Один раз произошла такая сцена. Когда я принес очередное ведро с похлебкой, один из больных произнес примерно такую речь: «Мы видим, что ты (он обращался ко мне) человек добрый и еще не потерял совесть, и чтоб ты ее окончательно не потерял, мы решили раздавать пищу сами». Тут же один из них, ходячий больной, стал разливать баланду во все тарелки, включая и мою. Так же начали делить хлеб без моего участия. Я был страшно обижен. К тому же, скудная порция похлебки при моей тяжелой работе была явно недостаточна. Но затем я к этому привык и был им очень благодарен за то, что они помогли мне остаться человеком при любых обстоятельствах. Мы остались задушевными друзьями, вместе болеющими за судьбу нашей страны. Многие другие санитары оставили о себе очень недобрую память.
Живые и мертвые
Обслуживать свою палату — это была еще не самая трудная работа санитара. Гораздо трудней и физически и морально была уборка длиннющего коридора и туалета. Дело в том, что основная масса поступавших больных в госпиталь в это время — это больные из лагерей военнопленных, разбросанных по всей стране. Очень жестоких боев на Финском фронте в это время уже не было. Прибывающие из лагерей обычно болели дистрофией, у них был жидкий понос. Было страшно смотреть, как эти измученные люди, еле передвигаясь, двигались в туалет. Из них лилась черная жижа. Все тело их было измазано этой жижей. На полу, по всему коридору они оставляли зловонный след. Коридор за ними надо было мыть несколько раз в день. И самым трудным было то, что их надо было обмывать и все время чистить и мыть туалет. Это был адский труд. Этим людям ничем уже нельзя было помочь. Госпитальная пища еще больше усугубляла их болезнь. Как правило, они через несколько дней погибали. И вот, каждое утро, наступало самое страшное. В коридоре стояли койки, на которых лежали покойники, вынесенные из палат. Они имели страшный вид. Даже трудно теперь об этом вспоминать и это описать. Их надо было раздеть, то есть снять белье. Это облитое жижей белье надо было сдать. Затем их надо было обмыть, положить на носилки и вынести во двор в специальное помещение (сарай). В этом сарае уже лежала целая куча таких же бедолаг. Кроме того, здесь лежали различные части тела: руки, ноги — это следы операций финских врачей. Затем все это грузили на грузовики и увозили на специальное поле, где всех вместе зарывали в яму и ставили деревянный крест. Как я все это выдерживал, сейчас мне даже трудно представить. Но, как видите, выдержал. Видимо, человеческие возможности все же безграничны.