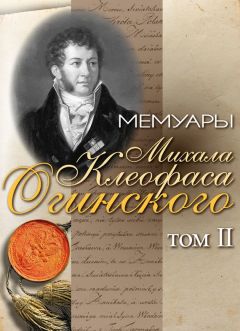Мечислав Яструн - Мицкевич
Чудесное настроение на обеде несколько испортил граф Замойский, ибо он начал декламировать присутствующим свои стихи. Их слушали из вежливости. Князь Адам делал вид, что слушает, но мысли его были далеко, — мысли его улетали во времена, которые учтивые ораторы снова воскрешали перед его умственным взором. Князь Адам вспоминал молодость свою, вспоминал нежных и прекрасных женщин тех благословенных времен, вспоминал, наконец, императора Александра, юношеский образ которого он и доныне носил в своем сердце. Вздохнул и прикрыл глаза. Все полагали, что его вывели из равновесия патриотические вирши галицийского графа.
Мицкевич курил трубку и помалкивал. Видел уже у себя за спиной неотвязную тень Владислава Замойского. Доверял князю, поскольку уважал его характер, забывая, что в делах политики решают не личные качества человека, но принципы, перед которыми характер всегда отступает на второй план.
На следующий день Мицкевич получил от министра иностранных дел устное указание писать в министерство, одновременно посылая копии писем князю Чарторыйскому, который будет отныне по воле Наполеона Третьего единственным представителем польской эмиграции перед лицом Франции. Таким образом, дело Польши становилось только частицей политики французского двора.
Назавтра Мицкевич, как солдат оружие перед битвой, осматривал только что принесенную дорожную подзорную трубу и палатку, купленную в магазине дорожных вещей. Разбил палатку в своей комнате.
— Я предпочитаю этот переносный дом стенам Арсенала, — сказал он своей старшей дочери. Взял из ее рук малиновое знамя с орлом и всадником. Гербы эти девушка вышила, корпя ночи напролет, только бы успеть к сроку. — Спасибо тебе, дитя мое, — сказал он. Поэт был очень скуп на похвалы и нежности. Марыся стояла с глазами, полными слез, ибо знала, что отец уезжает надолго, в дальнюю землю, которую она даже вообразить себе не могла.
В тот же день, накануне отъезда, взяв с собой сына Владислава, Мицкевич сидел за письменным столом и просматривал свои бумаги и рукописи. Перед далеким и опасным странствием он хотел привести их в порядок и ненужные сжечь. В комнате его была печка, он приказал наложить дров и хвороста, сам поджег и, как ребенок, радуясь пламени, пожирающему сухое дерево, швырнул в огонь без колебания довольно толстый сверток бумаг.
— Этого уже никогда не закончу, — сказал он сам себе, не глядя на сына. Над некоторыми бумагами он задерживался на мгновенье, чтобы в конце концов энергичным жестом предать их огню.
Когда он наклонялся, приближая лицо к топке, голова его становилась фантастической в алом озарении, пышные седые волосы, отброшенные назад, придавали ему вид какого-то языческого жреца. Но таинство, которое сейчас совершалось в комнате на улице Сюлли, было обрядом уничтожения.
В огне погибали его мысли, случайные заметки, незавершенные стихи и драматические сцены.
На дворе стоял сентябрь. Ветер бил в стекла окон, гудящее пламя озаряло комнату, изгоняя из углов застоявшийся в них сумрак.
— Помнишь легенду о Персефоне? — спросил Мицкевич сына и, не услышав ответа, углубился в чтение какого-то отрывка:
Пока не сжалился господь всевышний в небе,
Семейства этого был слишком тяжек жребий:
Приюта не было для них в широком свете,
В тюрьме иль под копной на свет являлись дети,
О гибели отца сызмальства знал ребенок,
Скиталец, пилигрим и арестант с пеленок;
В сиротстве пестован он матерью-вдовою
И знает об отце, что тот погиб, как воин.
Зато в округе всей семья известна эта,
Все рады, что она надеждою согрета.
Там губернатор был помещиком богатым,
В свой замок въехал он со всем придворным штатом.
Хотя обычно он весь год проводит в Гродно,
Недели две у нас провесть ему угодно
Зимой, под рождество…
Чем это должно было стать? Продолжением «Пана Тадеуша», которого все ожидали? Радовали его сейчас эти стихи, простые, как будто произнесенные невзначай; даже метрические шероховатости, поскольку стихи были написаны в спешке и без поправок, только увеличивали естественность течения. Отложил страницу. Взглянул на другую рукопись, из времен, когда хотел писать дальнейшие части «Дзядов»; было там о мальчике, заблудившемся среди могил, о песне лебеды и сорных трав на погосте… Бросил после недолгого колебания в огонь. Рукопись вспыхнула, свилась, как лопух, почернела, пожелтела и рассыпалась в прах…
Сцена эта глубоко запечатлелась в памяти Владислава. Правда, он не вполне понимал тогда, зачем отец жжет свои бумаги, но чувствовал, что совершается какое-то важное дело, любовался огнем и помогал отцу, который вручал ему некоторые страницы и жестом указывал, какова должна быть их судьба. Понял одно: не все, что отец написал, должно быть сохранено. Испробовал позднее, спустя много лет после смерти отца, всеистребляющую силу пламени, когда приводил в порядок его наследство. И произошла удивительная вещь: стихия, которая как огонь вулкана очернила и ожгла эту великую и трудную жизнь, автору первого жизнеописания Адама Мицкевича послужила для уничтожения того, что не вмещалось в рамки общепринятых представлений о гении.
Мицкевич длинной обгоревшей палкой поправил Догорающие поленья; с явным удовольствием совершил он это действие. Сын зажег лампу, в свете которой ожила гравюра, представляющая святого Михаила Архангела. Вынырнул из полутьмы виленский пейзаж. На письменном столе два борющихся гипсовых медведя выступили из мрака.
В КРАЮ ВОСПОМИНАНИЯ
Эдвард Хлопицкий, парижский студент, осенью 1850 года навестил Мицкевича в доме на Рю де ла Санте, а год спустя вернулся в родную Вендзяголу, в Ковенском уезде. Встретился в Вильно с Одынцей, сыновьями супругов Маркевичей и Яном Чечотом; возобновил прежние знакомства и связи, приветствуемый всеми сердечно и, как он подметил, с оттенком уважения. И для этого были свои основания: ибо он возвращался из мировой столицы совершенно преображенный внешне и внутренне, физически и духовно; настоящий вояжер и притом студент парижских курсов. Из уст его звучала безупречная французская речь, а его изысканно-скромный наряд был предметом зависти виленских франтов. Да, теперь он, Эдвард Хлопицкий, — надежда национальной словесности и светский человек, познакомиться с которым мечтают здешние виленские красавицы. Но то, что в глазах интеллектуального мира придавало ему больше всего прелести, не имело ни малейшего отношения к его личным достоинствам. Всему виной был факт, которому он сам придавал немалый вес, а именно то обстоятельство, что он еще совсем недавно своими глазами видел Адама Мицкевича. Он сообщал теперь всем интересующимся кое-что из этих неполных и отрывочных воспоминании о встречах и беседах с Адамом, живописал перед ними словом, недостаточность и неполноту которого болезненно ощущал, фигуру поэта; старался не забыть ничего из произнесенных им фраз, причем ничего не прибавлять и не приукрашивать, нисколько не пытаясь выдвинуть себя на первый план, — совсем иначе, чем его тезка Одынец, который, не питая ни малейшего уважения к правде, предпочитал ей прекрасную выдумку.