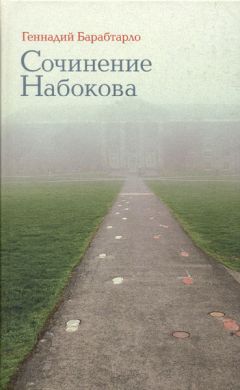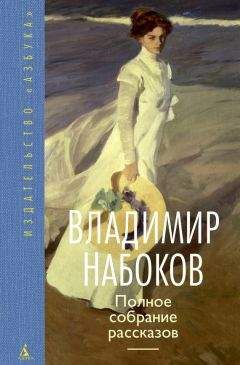Геннадий Барабтарло - Сочинение Набокова
Но может статься, что и вовсе не так. «Я дурная мать», — говорит обреченная женщина, но действительно дурные матери редко признаются в этом. В конце концов, она это говорит в порыве самоумалительной прямоты, указывая и укрупняя свои недостатки, с тем чтобы дать ему возможность передумать и взять назад свое предложение. Быть может, она любит дочь гораздо сильнее, чем повествователь заставляет нас поначалу думать, и, быть может, это и есть настоящая причина — или, во всяком случае, одна из причин — почему она не позволяет дочери жить с ними после свадьбы. Она как будто предощущает какую-то неуловимую фальшь, и то обстоятельство, что наделенный в иных отношениях ястребиной наблюдательностью герой лишь отмахивается от этих ее периодов задумчивой озабоченности, можно объяснить только крайней его самососредоточенностью. Он или неправильно толкует ее интуитивную тревогу, не говоря уже о проницательности, — или недооценивает их. Например, он полагает, что, убрав дочь со сцены, она хочет прежде всего устранить возможность невыгодного сопоставления между ее физическим распадом и свежей красою девочки (она однажды сказала, что до смешного завидует иногда здоровью дочери) — «Вот, значит, и выбирайте между мною и ею». Его заранее обдуманные способы скрыть ужас, вызываемый брачным ложем, или его попытка навестить девочку в том другом городе, где она живет у подруги матери, как будто усиливают туманные подозрения его жены, хотя он предпочитает сбрасывать их со счетов: «…С каким-то странным вниманием (или мне это кажется?) уставились на него ее два глаза и бородавка…» Отметим здесь, кстати, этот внезапный, выдающий повествователя переирыг в скобках в первое лицо и настоящее время — словно бы оговорка, которая делает явным на миг безиокойное «я», маячащее позади стилизованного «он». И точно: покров объективного повествования в этой повести до того тонок, что его можно поднять, как пядь дерна, в любом почти месте, и обнаружить под ним извивающегося, бледного повествователя. Немного дальше читаем, что «ему почудилось, что какой-то смутный, почти безеознательный, ревнивый уголек вдруг оживил ее дотоле несуществовавшие глаза». Его жена- предмет («предмет же был несуществен») составлена для него из пары несуществующих глаз, бородавки и несказанного ужаса изрезанной и зашитой ткани в
«брюшной области»: «если бы встретил ее на улице в другом квартале, не узнал бы».
Тем более ему не узнать знаков ее участия в своей жизни после того, как она умерла.
3. Иной план
Одним из главных отделов метафизики Набокова является гностического толка пневматология[32]. Во многих его разсказах и романах опытный глаз различит второй план, изощренно тонко, едва ли не эфемерно вплетенный в текст. Там, в этой иной плоскости, духи умерших незаметно вмешиваются в дела живых. Большинство героев Набокова не ведают об этом потустороннем вмешательстве, а тем немногим, кто переступает черту смутных предчувствий, нельзя сохранить разсудка, а иногда и самой жизни. Они, может быть, и чувствуют некое дуновение, но не могут распознать его источника, и всякая попытка добраться до него пресекается рукой деликатной, но решительной, как если бы незримый хранитель пытался отвлечь дитя, собирающееся изследовать вращающийся вентилятор, дотронувшись до его блестящих лопастей. Набоков признал наличие этой двойственности в чрезвычайно важном письме к Катарине Байт, одному из издателей «Нью-Йоркера» и своему другу. Это письмо от 17 марта 1951 года написано Набоковым несколько в сердцах, в ответ на отказ редакции «Нью-Йоркера» поместить его разсказ «Сестры Вэйн». С неслыханной для него откровенностью в таких вопросах Набоков открывает внутреннее строение разсказа, объясняет, что его герой, «довольно черствый наблюдатель поверхностных слоев жизни, невольно проходит… сквозь волшебную и трогательную «дымку» умершей Цинтии, которую он видит (когда говорит о ней) только как человека с такой-то кожей, такими-то волосами, такими-то манерами»[33]. И дальше он показывает, как «солнечный призрак» Цинтии ведет профессора и потом внушает ему заключительный акростих, а затем говорит: «Большинство разсказов, которые я собираюсь писать (и иные из тех, что я написал в прошлом <…>), будут следовать этому плану, этой системе, согласно которой второй (главный) разсказ вставлен в поверхностный и полупрозрачный — или, вернее, помещен позади него».
Вот и герой «Волшебника» описывает вдову, которая для него лишь «материал», лишь «вызывающий отвращение способ добиться преступной цели» (Дмитрий Набоков), только существо, наделенное бородавкой, несуществующими глазами и раздражающе затянувшимся недугом, со всеми свойственными болезни неприятными сторонами. Есть тонкий характерный штрих в его замечании: «Весной ей как будто сделалось хуже», где обыкновенное человеческое «сделалось лучше» машинально вывернуто наизнанку, ибо он надеется (и боится сглазить: «как будто»), что она не поправится. (Это, между прочим, еще одно свидетельство чревовещательнои техники повествователя.) Герой считает смерть своей жены загодя предвиденным удобством, своего рода удачным санитарным свойством использованного материала самоустраниться после того, как он отслужил свое и не нужен более.
Однако после этой смерти что-то незаметно перемещается; с этого момента события подвергаются некоему направляющему давлению, которого источник и смысл невозможно сразу уловить. Бойд пишет, что в книгах Набокова можно заметить, как в жизни некоторых избранных смертных ненавязчиво участвуют духи умерших, пекшихся о них и прежде, когда они и сами еще были смертными[34]. Или, напротив, тех, кто не довольно заботился о них и но смерти мучим раскаянием (например, Иван Лужин). На смертном одре жена героя умоляет его поклясться, что он заменит девочке отца; но это все равно что просить волка присмотреть за Красной Шапочкой — и волк обращает внимание на фантастически-нелепую сторону этой просьбы и, посмеиваясь, «надевает чепец». Опять-таки неизвестно, действительно ли умирающая сделалась настолько нервной и сосредоточенной на себе, что не может выносить шумного присутствия дочери (и перед смертью сожалеет о том и укоряет себя), или она держит ее на разстоянии вследствие некоторых смутных сомнений, которые одноколейного ума повествователь предпочитает игнорировать. При близком разсмотрении становится как будто ясно, что при жизни она любит дочь сильнее, чем он это изображает, а по смерти она, по-видимому, настойчиво пытается раз- строить его планы и защитить ее от него. Едкая ирония положения подчеркнута абсурдной в этом случае ходячей фразой, которую изрекает болтливая подруга женщины, когда волк приходит за девочкой: «Она-то, бедняжка, во всяком случае на небесах спокойна…»