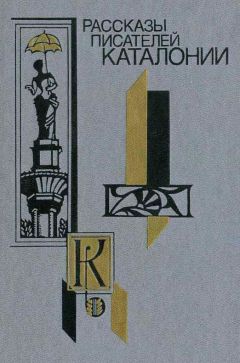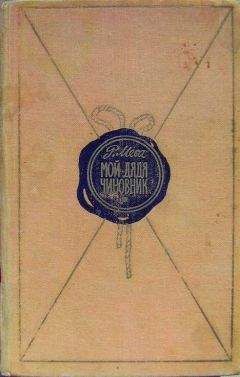Рамон Фолк-и-Камараза - Зеркальная комната
Доктор Жункоза не один раз устраивал скандал в нашем благочестивом семействе. Но, когда я вырос, дома никто уже не произносил подобных «еретических речей», вероотступники потерпели крах, сраженные клерикалами, выдвигавшими неоспоримую теорию, согласно которой Христос был «сыном человеческим» именно потому, что «сомневался в своем божественном происхождении». Эти «сомнения» — и тут защитники теории правы — заставляют всех смертных одновременно страдать и радоваться.
Как бы то ни было, когда доктор Жункоза умер, тетушка, прожившая после его смерти еще несколько лет, заказала пышную заупокойную мессу, а если дома речь заходила о докторе, она неизменно говорила: «Надеюсь, господь был милостив к нему и принял в рай этого отпетого грешника и богохульника».
Распрощавшись с тенями тетушки и доктора Жункозы, я свернул на дорогу, ведущую к дому. Там, на пороге, меня уже ожидала корзина с фруктами и едой — ее принесли, пока я ходил по лесу.
Было около десяти, утром я не успел позавтракать, к тому же прогулка пробудила у меня волчий аппетит, и я с жадностью набросился на еду. Для начала я сделал яичницу из двух яиц — одно, правда, разбилось, но и оно пошло в дело, — восхитительную яичницу с колбасой (колбаса у Жауме всегда отличная), согрел стакан молока, сварил кофе, а потом вынес из дома складной стул, чтобы поесть на свежем воздухе, предвкушая удовольствие от трубки, которую набил еще утром.
Однако с каждой минутой становилось все холоднее, кусочек синего неба над головой постепенно закрыли тучи, день был серым и безысходно-унылым.
Чтобы согреться, я, впервые после приезда, прошел через всю нашу «усадьбу» к беседке, стоявшей поблизости от старой дороги. Дорога теперь была совершенно безлюдной и пустой, потому что не так давно построили новую.
Такие беседки любят описывать в романах: летом ее старая черепичная крыша, опиравшаяся на голубые деревянные столбики, ярко выделялась на фоне зелени, а весной вокруг буйно цвели кусты диких роз. «Раньше там горел свет, а зажигали его прямо из дома, — вспоминали сестры. — А однажды в поселок приехал Масиа́[21], и власти попросили у нас разрешения привезти его сюда. Сам Масиа отдыхал в нашей беседке», — добавляли они не без гордости. А мне оставалось только выслушивать воспоминания о том, чего я, увы, не застал.
Но так ли это плохо? Может, не стоит жаловаться? Может тени из «славного прошлого» потому так будоражат мое воображение, что я не видел собственными глазами, как бьет фонтанчик посреди пруда, не был тем мальчишкой, которого поцеловал в щеку «сам господин президент»?
«Отсюда мы смотрели, как проходит поезд, когда здесь еще ходили поезда, помнишь?» — продолжали сестры. Ну, это я, слава богу, помню. Крошечный поезд из Тебираны, он был обречен на гибель еще до войны, когда здесь появились рейсовые автобусы. Помню, пустые брошенные вагоны долго стояли на путях между Вальновой и Корталетом, они все больше ветшали, крестьяне растаскивали их на дрова и на доски для птичника, а деревенские парни веселились там ночи напролет. В конце концов от вагонов остался только железный остов да колеса, прочно стоящие на рельсах, заросших высокой травой. Потом, когда стали расширять дорогу, эти рельсы окончательно исчезли. Но сегодня, сидя в беседке, я будто вновь видел этот поезд, вспоминал, как в детстве мы таскали из кузницы здоровые гвозди, подкладывали на рельсы, и поезд расплющивал их, превращая в маленькие плоские «сабли»; а с каким нетерпением мы, пятеро малышей, ожидали, когда пройдет дневной поезд — он появлялся ровно в полдень, — в одних трусиках мы выстраивались возле большой ямы, заполненной водой (это был наш «бассейн»), и, заслышав гудок, немедленно бросались в воду (а нырять, между прочим, куда как не просто, если глубина «бассейна» немногим более полуметра)… Однако я тут засиделся, воспоминаниям конца не видно, а пора бы, между прочим, подумать об ужине.
Об ужине, а не об обеде, потому что сегодня я устроил себе настоящий праздник (как и полагается в воскресенье — день господень) и, закончив обильный завтрак, отправился вздремнуть.
Когда я проснулся, солнце еще не зашло, но мрачная погода совершенно не располагала к прогулке, поэтому я решил, что сейчас хорошо бы выпить кофе, выкурить трубку и поболтать с кем-нибудь. В приятных беседах с самим собой незаметно пролетели целых пять часов, но все-таки пришлось прерваться и заняться делом — сходить в сарай за дровами и развести огонь.
Сегодня воскресенье — единственный день недели, когда мы всей семьей сидим у телевизора (и одновременно поглощаем бутерброды), поэтому я поужинаю в кресле у камина в ожидании, что сегодняшняя программа окажется не хуже вчерашней.
Знаю, знаю, надо приняться за книгу, с удовольствием бы, но времени нет — день кончился. И вообще — завтра понедельник, завтра первый день моего отпуска, и небо не упадет на землю оттого, что сегодня я отдыхаю на полную катушку: утром не делаю ничего, а вечером — только то, что хочется.
Вдруг мне пришла в голову интересная мысль: за весь день я ни разу не вспомнил о дорогой и любимой конторе. Добрый знак. Похоже, я начинаю менять кожу образцового служащего, которую носил еще позавчера и вчера, а сегодня, наверное, сбросил, гуляя по лесу.
Я действительно не вспоминал о работе и почти не вспоминал о Женеве до тех пор, пока не представил моих домашних у телевизора и подумал — должно быть, лет через тридцать-сорок наши дети будут показывать своим этот самый телевизор, а те изумляться, что такие серьезные люди пользовались такой старой примитивной рухлядью, так же как теперь мои дети не могут поверить, будто ручной граммофон и внушительных размеров радиоприемник были для нас высшим достижением прогресса.
Да будет так.
5
Не знаю, в чем тут дело, может, всему виной дух противоречия?
Или это потребность организма, спасительный инстинкт, сродни тому, что заставляет кошек и собак разыскивать и жевать целебную травку?
Или просто страшно начинать книгу — ведь в один прекрасный день вопреки моей воле она может увидеть свет… Мне хочется просто продолжать этот разговор с самим собой, не заботясь о том, что скажут или подумают другие.
Возможно, после стольких лет беспрекословного подчинения чужой воле, теперь, когда я наконец вырвался на свободу, мне и помыслить страшно о работе. Как будто речь идет не о моем желании написать книгу, а об обязательстве (пусть добровольном), о поручении (хотя дал я его себе сам) или о домашнем задании (хотя я сам выдумал его).
Я начинаю опасливо поглядывать на листы с набросками будущей книги, точно передо мною строгое предписание шефа — выполнить к определенной дате перевод документа. Рано или поздно придется взяться за работу или же сложить листы в папку, а папку убрать в портфель.