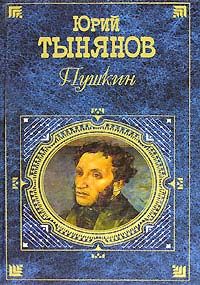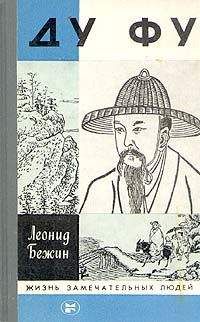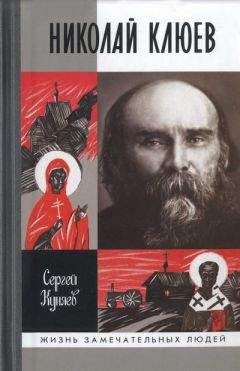Сергей Торопцев - Ли Бо: Земная судьба Небожителя
И вот свой поэтический ряд Ли Бо начинает с луны. Но не просто луны, а чу юэ — «начальной» (то есть молодой, юной; именно потому тут уместен перевод «месяц», тем более что в русском языке это слово мужского рода, и это особо подчеркивает, что поэт отождествляет самого себя с образом «юного месяца»). В первой строке оригинального текста стоит слово — да не испугает оно русского читателя — «жаба». Для перевода оно немыслимо, потому что семантическое наполнение его в двух языках совершенно противоположно: у нас это нечто отвратительно-зловещее; у китайцев — положительное, часто усиленное определением «яшмовая» (то есть прекрасная) и мифологической аурой, в которой «яшмовая жаба» обычно выступает однозначно как метоним луны, хотя в определенных ситуациях (затмение) — как ее антагонист (отгрызает кусочек за кусочком).
Но как луна может появляться над морем для поэта, находящегося в горах Шу, где нет ни моря как такового, ни крупного озера, которые древние китайцы нередко именовали «морями»? Конечно, это мог бы быть и трафарет. К тому времени Ли Бо был уже достаточно начитан и научен ведущему правилу китайского стихосложения — оставаться в рамках традиции, повторять заметные образцы прошлого. И этим выводом можно было бы удовлетвориться, если бы из этого мальчика не развился гениальный поэт. А суть гения — в нарушении традиций, в самовыражении даже при внешней иллюзии штампа, вопреки штампу, который в таком случае перестает быть штампом, превращаясь в индивидуализированный художественный прием.
Стихи Ли Бо — это его дневник. Если, став зрелым поэтом, он не столько живописал случившиеся с ним события, сколько воссоздавал размышления, вызванные этими событиями, то по юношеским стихам мы можем отчетливо реконструировать сами события. Так, в 718 году он отправился в соседний монастырь к другу-даосу. Чаща дерев была так густа, что приглушала удары полдневного монастырского колокола, почти не слышного в глубине. Небольшой, но стремительный ручеек бежал по склону, ниспадая с камней шумными водопадами, где-то лаяла собака, и с листьев падали на редких прохожих капли утренней росы. Но друга не оказалось на месте, и среди пустынных сосен не нашлось никого, кто мог бы сказать, где же он. Взгрустнувший поэт меланхолично изобразил всё это в стихотворении «Шел на гору Дайтянь к даосу, да не застал его», которое нацарапал углем на замкнутых дверях обители. Оно считается первым из стихов, совершенно точно принадлежащих кисти Ли Бо.
Настал час, когда Чжао Жуй понял, что ученик достоин познакомиться с его заветным «Каноном о достоинствах и недостатках» (он упоминается в «Новой книге [о династии] Тан», цзюань 59; вышел отдельным изданием в 1992 году в Шанхае). В нем Чжао Жуй оглядывался на прошлое и определял варианты исторического развития как «путь властителя» (в том числе и в даоском понимании изначального совершенномудрого властителя), «путь гегемона» и «власть сильного государства». Он порицал такой путь правителя, который ведет к «жажде славы» в ущерб мудрости, политическое правление, предавшее забвению Изначальность. Поднебесная, утверждал философ, «не есть Поднебесная одного человека, а есть обиталище добродетельных».
Через месяц Ли Бо задал учителю первый вопрос: «Отчего Учитель упоминает в книге о взлетах истории и смутах времени, но ничего не говорит о нашей великой Танской династии?» — «Познай древнее, — ответил Чжао Жуй, — и познаешь сегодняшнее, деяния в прошлом и настоящем разнятся, а принципы Дао одни и те же».
«Удивительной книгой» назвал Ли Бо «Канон о достоинствах и недостатках», и мысли учителя на долгие годы прочно легли в фундамент его мировоззрения. Он не отказался от идеи «служения», но искал «идеального правителя», руководящего «сильным государством», в котором народ благоденствует. Когда он покинул Шу и столкнулся с реальным миром за границами отшельнического скита, то, заболев в Янчжоу, он в минуту слабости в 726 году зарифмовал свою грусть по поводу недостижимости высоких честолюбивых мечтаний. Это стихотворение он послал именно Чжао Жую.
Финальные строки стихотворения напоминают те слова из трактата «Лунь юй» (гл. 7, § 5), где «стареющий» (то есть теряющий душевные силы) Конфуций сетует, что перестал видеть во сне Чжоу-гуна, одного из почитаемых совершенномудрых людей древности (слово гужэнь в строке Ли Бо имеет двойной смысл — и «друг», и «человек древности»), стоявшего у истоков канонизированного чжоуского ритуала, в том числе и музыки как прародителя всех искусств.
Оправившись и готовясь к поездке в Чанъань в надежде приблизиться к обожествляемому и идеализированному «Сыну Солнца», он в первом стихотворении из цикла «Трудны пути идущего» (731 год) писал уже иначе:
Вино отборное на тысячу монет,
Еда отменная на десять тысяч чохов —
Ничто меня уж сильно не манит,
Сжимаю меч, и на душе тревога.
Я мог бы переплыть стремительный поток,
На Тайханшань к снегам нетающим подняться,
И я бы у ручья с удой дождаться смог,
До солнца бы сумел, хоть и во сне, домчаться.
Трудны пути идущего, трудны!
Куда ведут обрывистые горы?
Но час придет, и я не убоюсь волны
И выведу свой челн в безбрежные просторы.
В монастыре Дамин Ли Бо провел в общей сложности десять лет (с перерывами на визиты в отчий дом и путешествия по Шу), периодически общаясь с Чжао Жуем, после чего Учитель вручил ученику свой меч, доставшийся ему от его наставника, и напомнил слова древних мудрецов: «Прочитай десять тысяч свитков книг, прошагай десять тысяч дорог. Ты проштудировал немало книг, наполненных словами, теперь тебе необходимы книги без слов. Посад Синего Лотоса и Куанские горы слишком тесны для тебя».
Покидая отчий край в 724 году, поэт ответил наставнику стихотворением «Прощайте, Куанские горы», комментируемым исследователями как первый публичный рыцарский обет Ли Бо:
Лазоревых вершин предутренний зигзаг,
Лиан обители качанье на ветру.
Я много тут бродил в сопутствии собак
И возвращался с дровосеком ввечеру…
Смотрю на тучку, слышу обезьянью речь,
Спугнувши журавля, монах к пруду идет.
В любви и чистоте познал я книгу, меч,
Сим обетую — просветленья час грядет!
Первые восхождения
Весной 720 года Ли Бо, очередной раз покинув обитель, направился в столицу края Шу — Чэнду (город и сегодня называется так же, это центр провинции Сычуань), древний Цзиньчэн, Парчовый град, где производили расшитую золотыми нитями ткань, которую промывали в Парчовой реке.