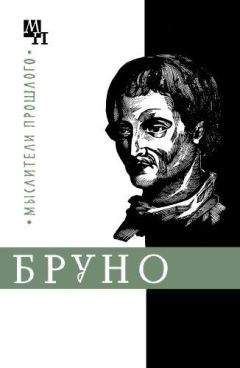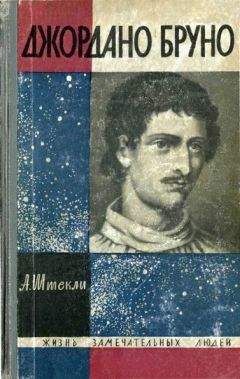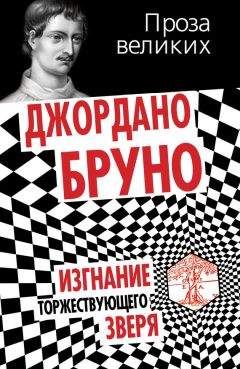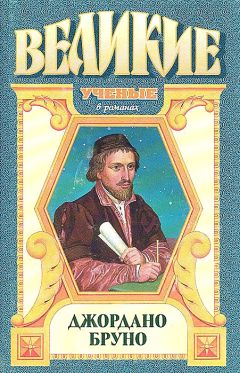Ю. Антоновский - Джордано Бруно. Его жизнь и философская деятельность
Полугодовое пребывание нашего философа во Франкфурте прервалось на время поездкою его в Цюрих. Здесь он читал лекции избранному кругу молодых людей по метафизике и основным понятиям логики. Среди его слушателей особенно выделялись двое: один реформатский священник с поэтически-философским складом ума, Рафаэль Эглин, получивший в том году от Цюриха гражданство за свои заслуги в деле народного образования, другой – юный патриций из Аугсбурга Иоганн Генрих Гейнцель, купивший около этого времени замок Эльг близ Винтертура. Молодой Гейнцель вел в своем новом имении веселый образ жизни. Замок его всегда был полон гостей; тут встречались феодалы с горожанами, ученые с представителями магистрата. По-видимому, и Бруно пользовался благосклонностью этого мецената. В противном случае зачем бы ему было посвящать Генриху Гейнцелю свое сочинение О сочетании образов, символов и представлений (De Imaginum, Signorum et Idearum Composirione). Вероятно, Гейнцель и пригласил нашего философа в Цюрих, где он познакомился с Эглином, отзывавшимся впоследствии с восторгом о талантах своего учителя: «Стоя на одной ноге (странная привычка Бруно), он думал и диктовал так скоро, что перья едва могли поспевать за ним, – таков он был по быстроте своего ума и великой способности к мышлению». Указанное выше сочинение, напечатанное первоначально Эглином в Цюрихе, а затем в 1609 году в Марбурге вторым изданием, под названием Словарь метафизических терминов (Summa terminorum metaphysicorum), оправдывает вполне удивление Эглина перед диалектической ловкостью Бруно.
Однако после очень недолгого пребывания в Цюрихе наш философ возвратился во Франкфурт. Остается неизвестным, что заставило его так скоро оставить Цюрих. Были ли причиною тому книги, которые предстояло корректировать, или ему не понравились стремления и интересы обитателей Эльга. Тот факт, что несколько лет спустя Гейнцелъ и Эглин судились за подделку монет и занятия алхимией, дает повод думать, не делали ли они и Бруно предложения заняться вместе с ними алхимией. Это обстоятельство могло ускорить решение нашего философа возвратиться во Франкфурт, потому что он, как мы знаем, отрицал алхимию и занятия ею резко осмеял в своем Светильнике.
Во Франкфурте Бруно всецело занялся продолжением печатания своих латинских произведений, быстро следовавших одно за другим, хотя, к сожалению, автору их и не было суждено довести печатание до конца. Все издание составляло два неодинаково объемистых тома; первый из них обнимал сочинение О троякой наименьшей величине и об измерении (De triplici Minimo et Mensura). Во второй вошли следующие три книги: О монаде, числе и фигуре (de Monade, Numero et Figura), O неисчислимом, бесконечном и неизобразимом, или О вселенной и мирах (De Innumerabilibus, Immenso et Infigurabili, seu de Universo et Mundis) и О сочетании образов, символов и представлений (De Imaginum, Signorum et Idearum Compositione).
Книги «De triplici Minimo» и «De Monade» заслуживают едва ли не наибольшего внимания из всех перечисленных латинских сочинений Бруно. В них положено начало учению о монадах, которое со времени Лейбница и до наших дней играет известную роль в истории философской мысли. Монада есть одновременно математическая точка, физический атом и психическая сущность, обладающая ощущением и волею. Концепция монады возникла у Бруно благодаря стремлению познать мир и его составные части по аналогии с жизнью, которая нам известна путем внутреннего сознания и с которою приходится сравнивать чисто объективное, в известном смысле безжизненное существование, если мы хотим это последнее постичь изнутри как нечто субъективное. Разумеется, – говорит Дюринг, – Бруно посредством своих монад не перекинул мост для перехода от сознания к бессознательному, от субъективного к объективному; впрочем, последнее и не могло входить в намерения автора рассматриваемой концепции. Он хотел лишь представить целое и его части как живое единство живых единиц, и в этом смысле сделать вселенную объектом наших чувств. Из-за этой цели он невольно должен был приписать сознание, хотя бы и в самом малом объеме, любому элементу мировой системы. Не одарив жизнью мертвую часть вселенной, Бруно не достиг бы того однородного единства мира, которое одно может стать предметом как аффекта, так и субъективного понимания. Он не хотел признавать бездны, лежащей между миром внешним и внутренним, и достиг ее мнимого устранения тем, что распространил сферу сознания далеко за его действительные пределы. По Бруно, человек служит мерилом всякого внутреннего, субъективного бытия. Каждая материальная частица должна быть мыслима не только как объект, но и как субъект. Нечто соответствующее ощущению, хотя и не одинаковое с ним, предполагается присущим всем формам существования. Этим путем каждая частица материи наделяется известной степенью субъективности, представляемой наподобие человеческого ощущения и воли. Если внутреннее состояние внешнего мира и останется, тем не менее, неизвестным, то является, по крайней мере, пропорция, благодаря которой возможно заключить об остающемся неизвестным числе, насколько вообще это мыслимо при отношениях неколичественного характера.
Другое латинское сочинение Бруно О сочетании образов, символов и представлений является переработкой книги Тени идей. В той же догматической форме здесь утверждается, что вещи вполне совпадают с их отражениями в нашем уме и что поэтому духовная жизнь покоится собственно на возбуждениях воображения. «Одни постигают мировую гармонию преимущественно путем зрения, другие, хотя и в меньшей мере, посредством слуха. Поэтому-то и существует удивительное сродство душ между истинными поэтами, музыкантами, художниками и философами. Всякая истинная философия есть вместе с тем музыка или поэзия и живопись; истинная живопись есть вместе с тем музыка и философия. Истинная поэзия и музыка есть своего рода божественная мудрость и живопись».
За книгою «De Monade» следует естественно-философское стихотворение О бесконечном, содержащее неисчерпаемое сокровище поэтических картин природы. Это стихотворение воспроизводит вновь содержание изданных в Лондоне диалогов О бесконечном, едином и мирах, но оно написано в духе и стиле Лукреция. Если при чтении некоторых объяснений физических явлений и может явиться улыбка на устах современного читателя, то следует помнить, какие успехи сделали физика и астрофизика со времени Бруно. Внимание читателя невольно приковывается к художественным сторонам этого удивительного стихотворения, и он должен признать, что вселенная, взаимодействие ее жизни с жизнью нашей планеты, наконец связь физических и духовных явлений, никогда не находили еще такого восторженного и настолько проникнутого поэтическим чувством описателя, как Бруно. Возбуждающая восторг красота вселенной и немое удивление перед ее величественной закономерностью дали ему повод, в особенности в конце стихотворения, к истинно-поэтическому изображению природы. Недаром Берти называет стихотворение О бесконечном эпосом метафизики и космологии.