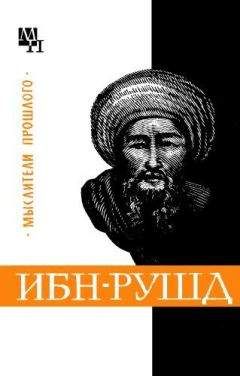Дёрдь Кроо - Если бы Шуман вел дневник
Другим женским образом, игравшим важную роль в жизни Шумана того времени, была Генриетта Фойгт. В своем «Собрании сочинений» Шуман вспоминает о ней:
«…В кругах любителей искусства, возникших в нашем городе в начале 1834 года, Генриетта Фойгт, наша рано усопшая приятельница, занимала особое место. На этих страницах я должен в нескольких словах упомянуть о той, кому обязаны своим возникновением те общества, к которым ушедшая от нас проявляла столь живой интерес, главным образом, при содействии своего учителя и друга Людвига Шунке. До знакомства с этим превосходным художником Генриетта Фойгт была сторонницей преимущественно более старой школы. Будучи в Берлине ученицей Людвига Бергера, она с восторгом предпочитала играть преимущественно сочинения этого композитора и, кроме него, – только Бетховена. Мы знали это, и прошло много времени, прежде чем Флорестан, только с трудом общавшийся с так называемыми „бетховенистками“, вместе с Шунке завязал более близкое знакомство с ней, принесшее нам позднее множество приятных переживаний. Любителю искусства достаточно было вступить в ее жилище, чтобы почувствовать себя там дома. Над роялем висели портреты обоих названных композиторов; к услугам желающих была отборная музыкальная библиотека. Все выглядело так, словно хозяином в доме был музыкант, а музыка – верховной богиней. Одним словом, хозяин и хозяйка улавливали малейшие желания музыкантов. В этом смысле многие, пришедшие сюда сперва как чужие и незнакомые, вспомнят этот дом. Шунке вскоре совсем обжился здесь. Он привлек внимание Генриетты к новому направлению, заявившему о себе после смерти Бетховена и Вебера. Так она взялась за Франца Шуберта, а уж если кто-либо и обладал даром возбуждать музыкальные симпатии, то это он со своими сочинениями для игры в четыре руки, сочинениями, которые объединяют души быстрее, чем слова. Рядом с Шубертом появились Мендельсон и Шопен. Волшебное очарование первого довело эту женщину до преклонения перед ним, в то время как сочинения второго она предпочитала скорее слушать, чем играть сама. Другим гостем дома был придворный советник Рохлиц, который охотно слушал рассказы своей приятельницы о жизни и делах молодых художников и через ее игру знакомился с их творениями. В довершение к этому она состояла в оживленной переписке со многими известными деятелями искусства и с симпатией относилась и к иностранным художникам. К сожалению, из этой оживленной жизни слишком рано был вырван тот, кто, в основном, вызвал ее. Болезнь Людвига Шунке в ходе 1834 года принимала все более угрожающий оборот. Он не легко мог бы найти более верную сиделку, чем наша приятельница, и если человеческие руки могли бы отвести смерть, это были бы ее руки, которые до последнего вздоха умирающего приносили ему утешение и ободрение. Умер он молодым, как художник он не достиг своей цели, но он любим и не забыт многими. После того еще многие стучались в двери знакомого гостеприимного дома, завязывались новые связи, однако ни одна из них не смогла превратиться в столь сердечный и значительный союз. Звук лопнувшей струны был слышен еще долго. Примерно пять лет спустя умерла и наша подруга, от той же самой болезни, которую природа столь добросердечно скрывает от своих избранников, что они полагают свои силы день ото дня возрастающими, и столь удивительно обманывает больных… что чахоточные лишь редко верят в свою смерть. Она утешала себя надеждами на новую жизнь. Но до последнего мгновения сохранила она ту же любовь к музыке, ту же жертвенную привязанность к своим учителям, выражавшуюся даже в таких мелочах, что она часто сама покупала цветы или фрукты, чтоб тайно или открыто послать их какому-либо почитаемому ею художнику. Так она часто посылала венки на могилу Шунке, а еще раньше поставила на нее надгробный камень. Так появлялась она повсюду, где речь шла о музыке и музыкантах. Исключительно благоприятные условия, в которых она находилась, и ее супруг, никогда не препятствовавший ее любимым мыслям, помогали ей в этом…»
Наряду с любовью к двум этим женщинам, большое значение в жизни Шумана во второй половине 30-х годов имело его знакомство с Мендельсоном и Шопеном. Мендельсона Шуман впервые увидел в августе 1835 года в лейпцигском концертном зале Гевандхауз. Через Генриетту Фойгт он познакомился с ним. Мендельсон в сентябре того же года окончательно переселился в Лейпциг. Начиная с этого времени оба композитора часто встречались. Шуман высоко ценил исключительный ум Мендельсона, его глубокие знания и редкую способность правильно оценивать произведения искусства. Его похвала была для Шумана важнее всего. Шуман ценил как в жизни, так и в искусстве Мендельсона законченное совершенство, классическую умеренность и ценил тем больше потому, что чувствовал, как этих качеств не хватает ему самому. Это же было, по-видимому, причиной одного замечания, в котором Шуман сравнивал мендельсонову игру на фортепьяно с моцартовской. Он видел в Мендельсоне вундеркинда, на которого гениальные решения сыпались сами, как зрелые плоды, и одновременно образованного музыканта, которому послушно покоряется любая музыкальная форма.
Впоследствии Шуман в своих воспоминаниях дал следующий образ Мендельсона
«Глубокий смысл во всем, что он делал и говорил, от мелочей до великого.
Его суждения о музыке, а именно о музыкальных произведениях, – самые верные и раскрывающие их глубочайшее ядро изо всех суждений, какие только можно себе представить.
Мгновенно и повсюду узнавал он ошибку, ее причину и воздействие.
Его похвала была для меня всегда самой высокой наградой, он был для меня самой высокой, последней инстанцией. Его жизнь была произведением искусства – и совершенным. Даже почерк его отражал внутреннюю гармонию!
Мендельсон был во всем правдив. Он не был ни доступен лести, ни способен на нее.
Он знал все, что происходит в мире; было невозможно сообщить ему что-либо новое.
Возвышенность его обхождения.
Его высший основной принцип в обыденной жизни и в искусстве – оратория «Павел» (Собрание сочинений, т. I).
«…Обратимся несколькими словами к более благородному. С ним ты будешь настроен на надежду и веру и научишься вновь любить своих ближних. С ним можно покоиться, как под пальмами, когда, усталый, ты ищешь приюта и вдруг перед тобой раскроется цветущий ландшафт. Это „Павел“ – произведение чистейшего мира и любви. Захотев сравнить его хотя бы отдаленно с произведениями Генделя или Баха, ты причинил бы лишь вред себе и боль его автору. В том, в чем похожа друг на друга вся церковная музыка, все божьи храмы, все написанные художниками мадонны, – они сходны. Однако Бах и Гендель, когда создавали свои произведения, были уже зрелыми мужчинами, Мендельсон же написал ораторию почти совсем юным. Следовательно, это произведение молодого мастера, в сознании которого еще играют грации, еще преисполненного чувства радости жизни и веры в будущее; оно несравнимо с созданием тех строгих времен -одного из тех божественных мастеров, которые, имея за собой долгую святую жизнь, головой уходили уже в облака. Развитие действия, возобновление хорала, с которым мы уже встречались в старых ораториях, разделение хора и отдельных его действующих лиц на наблюдающие массы и личности, характер самих этих отдельных лиц, – обо всем этом, как и о другом, мы уже очень много говорили на этих страницах. И о том, что основные моменты, в ущерб впечатлению от целого, находятся уже в первой части действия, что Стефаний – лицо второстепенное – хотя и не приобретает перевес над Павлом, все же уменьшает интерес к последнему. Что, наконец, Павел в музыке действует скорее как обращенный, чем обращающий, замечание это так же справедливо, как и то, что оратория вообще очень длинна и легко могла бы быть разделена на две. Но важно, что это произведение вносит в разговор об искусстве прежде всего мендельсоновское поэтическое представление о явлении Творца. Однако я полагаю, что все можно испортить размышлениями и нельзя обидеть композитора сильнее, чем размышлениями над одной из самых прекрасных его находок. Я полагаю, что господь бог говорит чрез многие языки и раскрывает избраннику свои повеления через хор ангелов. Я полагаю, что живописец поэтичнее выражает близость Всевышнего посредством выглядывающих из облаков голов херувимов, чем посредством изображения старца или символа триединства и т. п. Я и не подозревал, что может быть оскорбительна красота, когда недостижима правдивость. Были и такие, кто пытался утверждать, что некоторые хоралы в „Павле“, благодаря редким украшениям, которыми окружил их Мендельсон, пострадали в своей простоте. Как будто бы хоральная музыка не может быть таким же хорошим выражением радостной веры в бога, как и горячей мольбы, как будто между „Wachet auf“ и т. д. и „Aus tiefer Not“ [7] не может быть разницы, как будто бы произведение искусства не может удовлетворять другие запросы, кроме как запросы поющей общины! И, наконец, «Павла» не однажды хотели считать не протестантской ораторией, а ораторией концертной, причем один умник предложил средний путь: назвать это произведение протестантской концертной ораторией. Как видите, возражения, причем даже обоснованные, имеются во множестве, к тому же следует уважать и усердие критики. С этим, однако, надо сравнить то, что от оратории никто не отнимает, а именно, помимо основного ядра, ее глубоко религиозное настроение, которое выражается во всем, если принять во внимание все мастерские музыкальные находки, этот в высшей степени благородный напев, это слияние слова и звука, языка и музыки, и то, что мы видим все как бы в ощутимой глубине, прекрасную группировку персонажей, изящество, разлитое во всем, эту свежесть, этот сияющий колорит в инструментовке, этот доведенный до совершенства стиль, не говоря уж о мастерской игре всеми формами переложения стихов на музыку. Тогда, я полагаю, нам следовало бы быть довольными этой вещью. У меня есть только одно замечание. Музыка к «Павлу», взятая в целом, столь понятна и популярна, запечатлевается в памяти столь быстро и надолго, что кажется, будто композитор во время написания ее уделял особое внимание тому, чтобы она оказала влияние на народ. Сколь ни прекрасно это стремление, подобное намерение отняло бы у будущих композиторов часть их силы и воодушевления, как мы видим это в произведениях тех, кто необдуманно, без цели и ограничения отдался своей большой теме. И, напоследок, подумаем о том, что Бетховен написал «Христа на масличной горе», а также «Missasolemnis», и поверим, что подобно тому, как Мендельсон-юноша написал ораторию, Мендельсон-мужчина совершит еще кое-что. А до этих пор удовольствуемся существующим, изучим его и насладимся им.