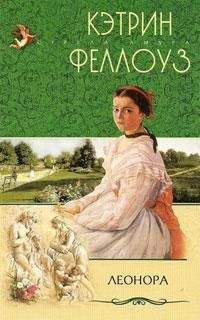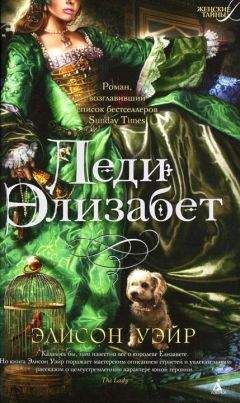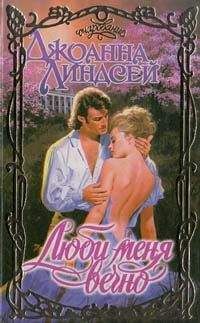Коллектив авторов - Любовные письма великих людей. Соотечественники
Погода в Петербурге чудесная, весенняя. Она прибыла сюда вместе со мною, потому что до моего приезда здесь были дождь и холод. А теперь на небе ни облачка, все облито блеском солнца, тепло, как в ясный апрельский день. Вчера было туманно, и я думал, что погода переменится; но сегодня снова блещет солнце, и мои окна отворены. А ночи? Если бы вы знали, какие теперь ночи! Цвет неба густо темен и в то же время ярко блестящ усыпавшими его звездами. Не думайте, что я не берегусь, обрадовавшись такой погоде. Напротив: я и днем, как и вечером, хожу в моем теплом пальто, чему, между прочим, причиною и то, что еще не пришел в П. посланный по транспорту ящик с моими вещами, где и обретается мое летнее пальто. Впрочем, днем нет никакой опасности ходить в одном сюртуке, без всякого пальто, но вечером это довольно опасно, и вот ради чего я и днем жарюсь… (в) зимнем пальто. Мне кажется, что в Москве теперь должна быть хорошая погода. Не забудьте уведомить меня об этом: московская погода очень интересует меня. Не поверите, как жарко: окна отворены, а я задыхаюсь от жару. На небе так (ярко) и светло, а на душе так легко и весело!
Без меня мои растения ужасно разрослись, а что больше всего обрадовало меня, так это то, что без меня расцвела одна из моих олеандр. Я очень люблю это растение, и у меня их целых три горшка. Одна олеандра выше меня ростом. После тысячи мелких и ядовитых досад и хлопот, Боткин, наконец, уехал за границу. Это было в субботу (4 сент.). Я провожал его до Кронштадта. День был чудесный, – и мне так отрадно было думать и мечтать о вас на море. Расстались мы с Б. довольно грустно, чему была важная причина, о которой узнаете после. Странное дело! Я едва мог дождаться, когда перейду на мою квартиру, а тут мне тяжела была мысль, что я вот сегодня же ночую в ней. И теперь еще мне как-то дико в ней. Впрочем, это будет так до тех пор, пока я вновь не найду самого себя, т. е. пока вы не возвратите меня самому мне. До тех пор мне одно утешение и одно наслаждение: смотреть на стены и мысленно определять перемещение картин и мебели. Это меня ужасно занимает.
Скажите: скоро ли получу я от вас письмо? Жду – и не верю, что дождусь, уверен, что получу скоро – и боюсь даже надеяться. О, не мучьте меня, но ведь вы уже послали ваше письмо, и я получу его сегодня, завтра! – не правда ли?
Прощайте. Храни вас Господь! Пусть добрые ду́хи окружают вас днем, нашептывают вам слова любви и счастья, а ночью посылают вам хорошие сны. А я, – я хотел бы теперь хоть на минуту увидать вас, долго, долго посмотреть вам в глаза, обнять ваши колени и поцеловать край вашего платья. Но нет, лучше дольше, как можно дольше не видаться совсем, нежели увидеться на одну только минуту и вновь расстаться, как мы уже расстались раз. Простите меня за эту болтовню; грудь моя горит; на глазах накипает слеза: в таком глупом состоянии обыкновенно хочется сказать много и ничего не говорится, или говорится очень глупо. Странное дело! В мечтах я лучше говорю с вами, чем на письме, как некогда заочно я лучше говорил с вами, чем при свиданиях. Что-то теперь Сокольники. Что заветная дорожка, зеленая скамеечка, великолепная аллея? Как грустно вспомнить обо всем этом, и сколько отрады и счастья в грусти этого воспоминания!
В. Г. Белинский – невесте М. В. Орловой, впоследствии его жене
(Петербург, 14 сентября 1843 года)
Наконец-то вы и Бог сжалились надо мною. О, если бы вы знали, чего мне стоило ваше долгое молчание. Первое письмо мое пошло к вам 3-го сент. (в пят.), след. 6-го (в понед.), вы получили его. Я расчел, что во вторник Агр. В. дежурная, и потому думал, что ваш ответ пойдет в среду (8-го), а ко мне придет в субботу. Но в субботу ничего не пришло, и мне с чего-то вообразилось, что я жду вашего ответа на мое письмо уже недели две. В воскр. нет, я приуныл, – и в голову полезли разные вздоры: то мое письмо пропало на почте и не дошло до вас, то вы больны, и больны тяжко, то (смейтесь надо мною – я знал, что я глуп, – ведь вы же сделали меня дураком) вы вдруг охладели ли ко мне. Я не мог работать (а с работою и так опоздал, все думая о вас), мне было тяжело, жизнь опять приняла в глазах моих мрачный колорит. К тому же с воскресенья началась холодная и дождливая погода, а погода всегда имеет сильное влияние на расположение моего духа. В понедельник опять нет, сегодня ждал почти до 3-х часов, и с горя, несмотря на дождь, пошел обедать на другой конец Невского проспекта. Возвращаясь домой, возымел благое желание утешить себя в горе двумя десятками груш, твердо решившись истребить их менее, чем в двадцать минут. Прихожу домой, и из залы вижу в кабинете, на бюро, что-то вроде письма. У меня зарябило в глазах и захватило дух. Рука женская, но, может быть, это от Бак-х[13]. Н-т, на конверте штемпель московский. Что ж бы вы думали! – я сейчас схватил, распечатал, прочел? – Ничуть не бывало. Я переоделся, дождался, пока мой валет уйдет в свою комнату, – а сердце между тем билось…
Боже мой! сколько мучений прекратило ваше письмо! Сколько раз думал я, если это от болезни, то сохрани и помилуй меня Бог (это чуть ли не первая была моя молитва в жизни), если же это так – нынче да завтра, то прости ее, Господи! Я стал робок и всего боюсь, но больше всего в мире – вашей болезни. Мне кажется, что я так крепок, что смешно и думать и заботиться обо мне, но вы – о, Боже мой, Боже мой, сколько тяжелых грез, сколько мрачных опасений!
Тысячу и тысячу раз благодарю вас за ваше милое письмо. Оно так просто, так чуждо всякой изысканности и между тем так много говорит. Особенно восхитило оно меня тем, что в нем ваш характер, как живой, мечется у меня перед глазами, – ваш характер, весь составленный из благородной простоты, твердости и достоинства. Ваши выговоры мне за то и другое. Я перечитывал их слово в слово, буква по букве, медленно, как гастроном, наслаждающийся лакомым кушаньем. Я дал себе слово, как можно больше провиниться перед вами, чтобы вы как можно больше бранили меня. Впрочем, вы в одном вашем упреке мне решительно не правы. Как вы мало меня знаете, говорите вы мне, и говорите неправду. Я вас знаю хорошо, а самая ваша бестребовательность могла меня уже заставить немножко зафантазироваться. Притом же, как русский человек, я как-то привык думать, что, женясь, надо жить шире. Это, конечно, глупо. Я вас знаю – знаю, что вас нельзя ни удивить, ни обрадовать мелочами и вздорами, но не отнимайте же совсем у меня права думать больше о вас, чем о себе. Я знаю, что для вас все равно, тот или этот стул, лишь бы можно было сидеть на нем, но что же мне делать, если я счастлив мыслью, что лучший стул будет у вас, а не у меня. Глупо, глупо и глупо – вижу сам, да разве я претендую теперь хоть на капельку ума? Разве я не знаю, что с тех пор, как начал посещать Сок.[14], – сделался таким дураком, каким еще не бывал. Теперь я понял ту великую истину, что на свете только дураки счастливы. Я было отчаялся в возможности быть сколько-нибудь счастливым, не понимая того, что не велика беда, если родился не дураком, – стоит сойти с ума… Зарапортовался!