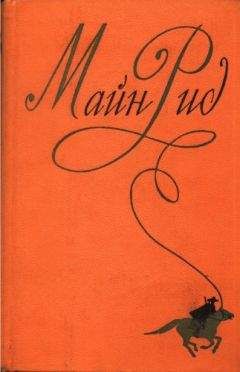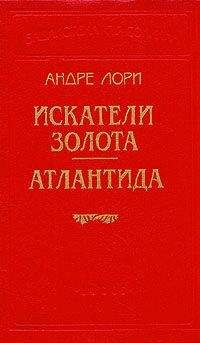Лев Гумилевский - Зинин
Вот так перед сном зашла у них однажды речь о неприятной необходимости заниматься химией, предпочитая в сердце математику. Глебов понимал, что Николай Николаевич затрагивает очень существенный для себя вопрос. По своей следовательской манере к ответу на него Глебов подошел не прямо, а окольным путем, как будто соглашаясь с мнением собеседника.
— Да и у нас в Москве химия преподается очень плохо, — говорил Иван Тимофеевич, закидывая руки за голову и вытягиваясь в постели. — Встанет, бывало, Петр Илларионович Страхов на кафедру, начнет рассказывать, например, о термометрах, чертит на доске мелом, говорит с увлечением, но термометра настоящего не показывает, а многие из нас его в руках никогда еще не держали, разве видели издали… Так и с веществами, имеющими прямое отношение к фармакологии и фармакогнозии…
Оживляясь, Иван Тимофеевич повернулся лицом к Зинину; тот, облокотившись на подушку, поддерживал тяжелую голову и смотрел на рассказчика с нетерпеливым любопытством.
— Был такой случай у нас, — продолжал Глебов. — Читавший фармакологию и фармакогнозию профессор был на редкость добродушным и доступным для студентов человеком, к тому же ученик Берцелиуса. Увидел он, что в химии-то мы беспомощные щенки, да и говорит: если есть желающие в праздники, в свободные часы заняться практикой, так давайте собираться в лаборатории, займемся реактивами, анализом, может быть перейдем и к самостоятельным работам в органической химии. Сразу нашлось человек двадцать охотников, и началась работа в подвале, в лаборатории. Работали прямо со страстью, только недолго: профессор химии вознегодовал, пожаловался начальству, поссорился с нашим профессором и запер лабораторию, шкафы на ключ!
Оба рассмеялись.
— Конечно, фармакогнозия и фармакология не главные предметы для медиков, — продолжая разговор в своей манере, заметил Глебов, — но кто может сказать, что в деле главное, что не главное?.. Вот, — прибавил он с оживлением, — например, у великого Иоганна Мюллера в кабинете на дубовом шкафу вырезано по-латыни: никто не психолог, если он не физиолог! А я вот, физиолог, могу сказать, что тот не физиолог, кто не химик. Ведь все физиологические процессы в то же время и химические! — громко, с ударением на последнем слове заключил он.
В стену предупредительно постучали, и разговор пришлось прекратить.
Последние впечатления дня, так же и мысли, выраженные в словах, обладают особенно внушающей силой, когда они падают на усталый мозг и дорабатываются им уже не контролируемые верхним сознанием, подсознательно. И тогда человек пробуждается, будто озаренный совсем новой мыслью, которую принимает как наитие свыше, дар небес, называет чутьем, вдохновением, интуицией. Часто так приходят к открытию, к решению трудной задачи, к поражающей наше воображение догадке, предвидению.
Как бы вдруг и неожиданно такое озарение нашло на Николая Николаевича на другой день после ночного разговора с Глебовым, вместе с мыслью о всеобъемлющей широте химической науки. Мысль эта показалась ему такой простой, верной, большой и значительной, что он даже удивился, как это она раньше никогда не приходила ему в голову.
Это было тем более удивительно, что вдогонку командированному за границу адъюнкту Мусин-Пушкин направил новую инструкцию. Попечитель предписывал уделять наибольшую часть времени и внимания осмотру фабрик и заводов, так как имел в виду предоставить Зинину кафедру технологии. Следуя инструкции, Николай Николаевич познакомился и с производствами, в основе которых лежали химические процессы: бурно развивалось производство фосфорных спичек, заменивших, наконец, трут и огниво; после синтеза Леопольдом Гмелиным ультрамарина производство его совершенно вытеснило природный лазуревый камень, и «берлинская лазурь», в десять раз более дешевая и более красивая, завоевала всемирное признание; быстро распространялась дагерротипия, предшествовавшая фотографии; создавались новые лекарственные, красящие вещества.
Химия, по глубокому предвидению Ломоносова, все дальше и дальше «простирала руки свои в дела человеческие».
Пока Николай Николаевич действовал по инструкции, а не по влечению ума и сердца, мысль о всеобъемлющем значении, о великом будущем химической науки не пробудилась у него. Но раз начавшаяся, она уже не могла остановиться.
Дальнейшему развитию и укреплению ее содействовал приватный курс лекций «отца физиологической химии» Иоганна Мюллера для избранных слушателей. Зинин прослушал его вместе с врачами, для которых он был организован Глебовым.
Такой же курс Николай Николаевич решил прослушать у Митчерлиха. Но старый ученый любезно сказал, что «новейшая химия сосредоточена у профессора Либиха», и рекомендовал отправиться к нему в Гиссен.
— Теперь все едут к Либиху, — добавил он с хорошей, по-стариковски доброй улыбкой, без всякой горечи, — раньше приходили ко мне. Мой русский ученик герр Карл Юлиус Фрицше уехал в Россию три года назад… Знаете вы его?
— Я читал его статьи в Бюллетенях нашей Академии наук…
— Когда встретите его, передайте привет старого учителя!
На этом и окончилась аудиенция у Митчерлиха. Николай Николаевич последовал его совету и отправился в Гиссен, сговорившись с Глебовым встретиться летом в Париже.
На пороге гиссенской лаборатории нового ученика встретил высокий, стройный, светловолосый юноша с такими голубыми глазами, с таким хорошим, круглым русским лицом, что Николай Николаевич, не думая, сказал:
— Вы русский?
Тот улыбнулся, протянул руку и, не сомневаясь, ответил:
— Как и вы!
Это был Александр Абрамович Воскресенский, один из группы талантливых молодых людей, направленных за границу министром народного просвещения С. С. Уваровым для подготовки к профессуре. Ими Уваров постепенно заменял неспособных профессоров в Петербургском университете.
Воскресенский был первым русским учеником у Либиха, и к вступлению в их число Зинина он уже завершил программу своих занятий в Гиссене. Здесь он оставлял по себе добрую память. И много лет спустя, встречая новых русских учеников, Либих, как и Зинину, говорил о Воскресенском:
— Это был наиболее талантливый из массы моих учеников — все трудное ему давалось легко, и на распутье он сразу выбирал верный путь. Я постоянно наблюдал за его работой и видел его всегдашнюю точность и аккуратность. Его все здесь ценили и любили!
Новому русскому, занявшему место Воскресенского в лаборатории, не сразу удалось завоевать сердца товарищей, но вскоре они оценили его дружелюбие, скромность, готовность помочь. Столь знаменитые впоследствии Август Гофман и француз Анри Реньо стали его друзьями.