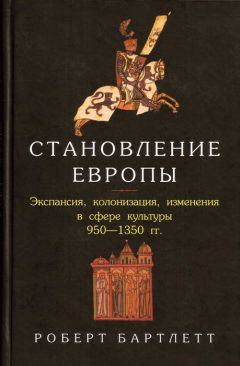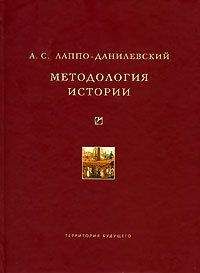Михаил Туган-Барановский - Джон Стюарт Милль. Его жизнь и научно – литературная деятельность
Тяжелое состояние духа Милля усиливалось тем, что ему не к кому было обратиться за утешением и поддержкой. Человек, с которым он был более всего близок, – его отец – не был способен понять причины тоски и уныния сына. Джеймс Милль тоже знал мало радости в жизни, не был счастлив и не верил в саму возможность счастья. Но это не приводило его в отчаяние. Жизнь представлялась ему тяжелой и трудной борьбой, от которой никто не имеет права уклоняться, и долг всегда стоял для него на первом плане. Он не нуждался ни в каких внешних стимулах, чтобы неуклонно и настойчиво стремиться к цели, которую наметил себе раз и навсегда. Он смотрел на душевное состояние сына как на постыдное малодушие, заслуживающее сурового порицания, но никак не сочувствия.
Между тем молодой Милль нуждался именно в сочувствии и любви. Он бессознательно тяготился той сухой и безрадостной атмосферой, в которой ему приходилось жить. Сам он называл себя «мыслящей машиной»; но, чтобы удовлетвориться таким существованием, ему нужно было атрофировать в себе большую часть своих душевных способностей. К этой цели и было направлено все его воспитание, но в решительный момент, когда цель казалась уже достигнутой, природа взяла свое, и Милль стал мучительно сознавать пустоту своей жизни, лишенной всяких сильных и ярких впечатлений. Он не мог увлекаться тем, чем увлекается большинство молодых людей его возраста: к женщинам он до сих пор оставался совершенно равнодушным, не влюблялся, не писал стихов и не мечтал «о ней». В его характере было мало честолюбия, и первые успехи, которыми он мог гордиться так рано, скоро перестали льстить его тщеславию, как все то, что слишком легко достигается нами. Наконец, любовь к человечеству, во имя которой он должен был вести борьбу с невежеством и предрассудками своих современников, не вытекала из его сердца и не могла поддерживать и воодушевлять его в трудные минуты жизни, подобные тем, которые он теперь переживал. Таким образом, в душе Милля не осталось никаких предметов желаний – ни благородных, ни эгоистических, – и он почувствовал усталость и пресыщение жизнью раньше, чем начал жить. По его собственным словам, он походил на прекрасно оснащенный корабль, с рулем и экипажем, но без парусов: не хватало двигающей силы, и кораблю грозило крушение.
Но привычка к труду, созданная воспитанием, была такова, что, несмотря на полную нравственную прострацию, Милль не прекращал своих обычных занятий. Он продолжал много читать и писать, говорил речи в устроенных им обществах, но все это делал без всякого увлечения, вяло и апатично. Привыкши анализировать свои душевные движения, он постоянно думал о том, от чего зависело то безотрадное настроение духа, которое его угнетало, и приходил к убеждению, что никто не в силах ему помочь. Он рассуждал следующим образом: все наши нравственные качества суть результат ассоциации; мы любим те вещи, которые обыкновенно причиняют нам удовольствие, не любим того, что причиняет нам страдание. Задача воспитания заключается в том, чтобы создать в душе ребенка твердые и прочные ассоциации между удовольствиями и поведением, направленным ко благу человечества, и ассоциацией страдания с противоположным образом действий. Но при его собственном воспитании на это правило не было обращено достаточного внимания. Отец довольствовался таким слабым воспитательным средством, как похвала одних поступков ребенка и порицание других. Таким путем устанавливались желательные ассоциации, но они были очень слабы. Между тем умственное развитие и вытекающая из него привычка к анализу имеет тенденцию разрушать все непрочные искусственные ассоциации и может привести к полной неспособности испытывать какие бы то ни было сильные желания. Его собственный опыт доказывал справедливость этих рассуждений, и он страдал от невозможности для себя полюбить то, что считал достойным любви.
Все это усиливало тоскливое настроение Милля. Он переживал трудное время: его излюбленные теории не могли оказать ему помощи в такую минуту, когда дело шло о всей его жизни. Он должен был признать, что человеческая душа есть вещь, несравненно более сложная, чем абстракция Бентама, и что одного ума недостаточно для жизни. Последователи Бентама называли сентиментальностью всякое сильное чувство, не придавали никакой важности эстетическим наслаждениям и мечтали преобразовать человеческий род при помощи одного разума. Милль с детства верил всему этому и не мог без мучительной борьбы отказаться от усвоенного им миросозерцания. Учение Бентама он продолжал считать истиной, но не мог уже относиться к нему с прежним увлечением и невольно искал новой веры, новых идеалов, которые воскресили бы в нем бодрость и энергию.
Он стал скептически относиться к своим реформаторским планам: что будут делать люди, чем они наполнят свою жизнь, когда цель будет достигнута и борьба за лучшее будущее увенчается победой? Стоит ли бороться с пороками и невежеством, господствующими в современном обществе, когда успех повлечет за собой только скуку и пресыщение жизнью? Как достигнуть того, чтобы люди были счастливы теми ежедневными будничными событиями, которые составляют главное содержание жизни каждого человека? До тех пор, пока не найдено разрешение этого вопроса, нечего и думать о социальной реформе.
Карлейль в таких выражениях говорил одной общей знакомой об этом кризисе, пережитом Миллем:
«Бедный малый! Он должен был освободиться от бентамизма, и все муки и волнения, перенесенные им, привели его в конце концов к таким мыслям, которые никогда не приходили в голову Бентаму. Но все-таки он слишком любит требовать доказательства для всего. Если бы Стюарт Милль очутился в раю, то он не успокоился бы до тех пор, пока не уяснил бы себе его устройство».
В таком настроении духа Милль оставался около полугода. Наконец это тяжелое состояние мало-помалу начало проходить. Он случайно прочел мемуары Мармонтеля, где очень живо описывались чувства одного молодого человека, потерявшего отца и неожиданно для самого себя сделавшегося единственной опорой осиротевшей семьи. Этот эпизод растрогал Милля до слез. Мысль о том, как он сам поступил бы в подобном случае, воскресила его энергию; он почувствовал, что в его душе еще не все умерло и сохранилось еще достаточно любви к своим близким, чтобы заботиться о них в случае нужды. Он начал с большим интересом относиться к своим обычным занятиям, стал оживляться во время разговора, увлекаться книгами и перестал думать о самоубийстве. Вместе с тем он сделался другим человеком: он стал увлекаться искусствами, в особенности музыкой. Опера Вебера «Оберон» привела его в восторг и воскресила в его душе надежду радоваться и наслаждаться, как все другие люди. Но привычка к анализу и рефлексии продолжала отравлять все его удовольствия: его серьезно мучила мысль, что музыкальные комбинации ограничены, так как октава состоит всего из пяти тонов и двух полутонов, следовательно, когда-нибудь будут исчерпаны все музыкальные мелодни, и человечество не будет больше наслаждаться новизной и оригинальностью музыкальных произведений. Он прекрасно сознавал, что в течение его личной жизни музыкальное творчество не прекратится, но не мог отделять своей собственной судьбы от участи всего человеческого рода. Чтобы полюбить жизнь, Милль должен был поверить в возможность счастья для всех людей.